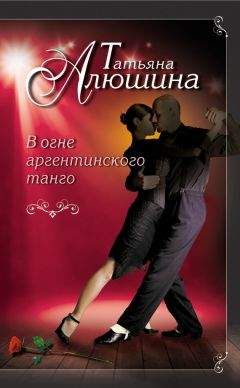Шамблен хмуро ответил:
– Мы стараемся. Лето. Те, к кому можно подойти, чтобы посмотрели в системе, в отпусках.
Верлен покатала желваки на скулах, проронила:
– Ты же услышал, что мне нужно это сейчас?
– Май, я всё понимаю, но куда мы теперь-то торопимся? Мы всё найдём, но только не в один же день.
Верлен с тоской смотрела на ленивую Неву: «Как ты не понимаешь… я люблю её. Она у меня ночует. Я с ней сплю. Сплю и не уверена, что она мне не враг. Я должна знать. Пока не поздно. Впрочем, кажется, уже поздно… потому что я хочу жить с ней всегда. Точнее, сколько получится, с её легкомыслием… Прости, что я несправедлива к тебе, друг мой».
Шамблен ещё постоял, потом уже повернулся к дверям, когда спину погладило тихое и тёплое:
– Спасибо тебе, Анри.
Мягко откликнулся:
– Я дорожу тобой. Если ты счастлива, то пусть всё будет так, как есть. И да, я обожаю, когда ты улыбаешься.
Шамблен ушёл, и пришлось вернуться к своим прямым обязанностям, на которые оставалось всё меньше и меньше времени, потому что рука тянулась к мобильному – позвонить, услышать голос, в котором плавились коньяк и шоколад, проверить, что исчезнувшая ночь – не плод воспалённого загнанного воображения, ещё раз спросить – правда ли, что вернётся… Не стала. Бесчувственность и бесстрастность, абсолютная недоступность и неподвластность. Хотя бы в эфире, хотя бы публично, хотя бы делая вид…
Снова засела за документы, поглядывая на зависшую у школы танго точку «Фиата», мельком подумала: «Интересно, бывает ли у тебя отпуск? Вряд ли, конечно: те, у кого есть собственное дело, в отпуск не ходят. А было бы здорово взять дней пять – семь, махнуть на пустынный остров, подальше от людей, нескромных взглядов… Спросить, что ли, вечером…»
Он уехал из Мурманска вслед за ней, но нашёл её только через четыре года, в одном из ресторанов, и прятался в обшитом деревом, скрытом зелёными искусственными ветвями винограда укромном уголке, потягивал коньяк, слушал невыносимо пряный, достигающий до невидимых жил голос, перебирающий звуки старинных песен, словно драгоценные камни. Наблюдал за движениями бархатистых рук, погружающихся в гитарные струны, пожирал неутолённым взглядом.
Эти тайные встречи с ней, о которых она и не подозревала, стали его страстью. Он дотрагивался взглядом до тёплого шёлка белоснежной концертной рубахи, разлитой по плечам, пробирался под неё, ловя играющие блики на загорелой коже, и потом, возвращаясь под утро домой, беспамятно, исступлённо шептал проклятия и обещания.
Он выходил в каменный лабиринт, размытый постоянными дождями, пытаясь расправить плечи от сминающих их снов, погружая разбитые о стены пальцы в крошево ночной тьмы, яростно желая только одного: чтобы она, дерзкая и нежная, принадлежала ему, и только ему.
Он тогда бежал, не замечая ни льда, ни снега, разрывая грудью бессильную взорваться светом ночную тьму, когда узнал, что дикий хохот, и кровь, и драка в гулких сводах сделали её свободной. Выследил, поймал, уговорил, купил – приобрёл. А спустя шесть лет она сломалась. Его самая дорогая вещь сломалась. Он снова потерял её. Теперь уже навсегда.
Он не смог заставить себя уехать из Петербурга. И всё чаще и чаще просто ходил по городу, ловя в других жест, походку, цвет волос, пока не набрёл на почти такую же, только целую, на площади, забитой танцующими людьми. И по иронии судьбы эта вторая вещь снова принадлежала той, из-за которой сломалась первая. Разжигая собственную немую ненависть, противной горечью вяжущую язык, он понял, что ему дают второй шанс. Теперь главное – заполучить её правильно, аккуратно и осторожно отобрав у других.
Выйдя в восемь вечера из банка, заехала в магазин, побросала в пакет каких-то совершенно экзотических фруктов, и всё – скорее домой. Сердце тянуло незнакомое сосущее чувство ожидания: приедет – не приедет… Всё повторится или нет… И это ночное «всё» слепило, дрожало знойным маревом, и нещадно пугало чувство – быть настолько живой.
Попытка отвлечься на работу не удалась. Цифры танцевали перед глазами, расплывались, самовольно менялись местами, шелест бумаг превращался в тугой бриз, приходилось то и дело возвращаться, перепроверять, вдумываться – и запутываться в печатной вязи, осознавая, что опять прислушиваешься к движению воздуха, пытаешься напряжённо уловить шипение дверей открывающегося лифта, который, на самом-то деле, работает беззвучно.
В накрывшем город сапфирово-розоватом колоколе неба вытравливались, как на дамасской стали, серебристые узоры созвездий, из окна тянуло сквозняком подступающего отчаяния, и то ли от него, то ли от очередной бессонной ночи под веками резало песком, и холодело под кромкой кудрей на затылке в ожидании летучего прикосновения. Откинувшись на спинку дивана, щурясь на уходящий день, думала: «Ты придёшь, и нам обязательно нужно поговорить. Я должна найти ответы. И если ты – не с ним, тогда… тогда твои длинные царские пальчики будут всегда вправе нажать на кнопку дверного звонка. Повернуть ключ. Распахнуть дверь. Неверный свет через ажурную рамку оживит твою уставшую тень или, наоборот, очертит полный сил силуэт. Я буду замирать, похоже, каждый раз в недоверчивости и сомнениях, сколько ещё мгновений открывающихся дверей ты сможешь мне подарить до того, как зловещий ливень „достаточно“ обрушится на весело пляшущие языки костра, полыхающего сейчас.
Сказать тебе, что я люблю тебя? Люблю с первого взгляда, когда мои плечи подпирали Монплезир, а ветер с Финского залива выдувал из моих мозгов тёмную ярость? Наверное, тебя это насмешит. У взрослых людей не бывает таких откровений. Нет, пока не скажу. И даже не потому, что у меня есть железное оправдание: „до снятия подозрений“. Потому, что я боюсь тебя испугать. Забавно звучит: „боюсь испугать“. Потому, что я боюсь тебя потерять.
Я недоросль-переросток, впервые познавший таинство любви и совершенно не знающий, что с этим нужно делать. И нужно ли… Где-то глубоко я чувствую, что то, что происходит, очень… правильно, что ли? Знающий не говорит, говорящий не знает – применимо ли это к нам? И я не спрошу, пока – не спрошу, что тебе нужно от меня. Только ли неделю-месяц-год обжигающих встреч? Или же: вместе – в отпуск, вместе – грипповать, вместе стоять на скале, удерживая плечами шторм, заворачиваться в летние туманы, как в тёплый плащ, пить по утрам крепкий кофе, вечером жарить мясо, сидеть, обнявшись, и рассказывать друг другу тайны и страхи?
Я не приучена жить, не принимая решений. Решать и двигаться дальше – это легко, намного легче, чем висеть между небом и землёй. Мне предстоит принять очень много маленьких: что сказать, кому, как и где обустроить нашу – вместе – жизнь, и одно – большое. Но его я уже приняла: я буду с тобой. Буду столько, сколько смогу, завоёвывая, не торопя, не принуждая, не выспрашивая. Не признаваясь? Да, пока – молча. Ты же тёплый, пушистый скворец, чуть затронешь перо – взлетишь… Ты привыкла к лёгким отношениям. Я постараюсь, подстроюсь. Нет, сейчас я не скажу тебе ничего».