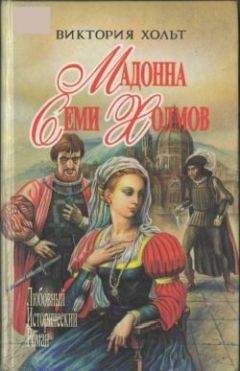Пять дней я провела под капельницей и неусыпным бдением братьев. Пять дней то ли сна, то ли яви. То ли борьбы с собой, то ли с самой жизнью. И я, как всегда, победила. Очнулась и смогла воспринимать посетителей, различать их. Разговаривать и отвечать, реагировать.
Вот только Сергея я видеть не хотела. Не могла. Мне казалось, что именно из-за него все произошло. Из-за него и из-за меня. Из-за того, что я так и не смогла вырвать его из сердца, попрать в душе. По-прежнему скучала по его рукам, взгляду, голосу, по-прежнему стремилась навстречу биению его сердца. И ничего не могла с собой поделать. Если бы мне дали больше времени на искоренение этой страсти, дали еще один шанс, я бы, наверное, очень постаралась и забыла его, стерла из памяти и души. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить.
Впрочем, нет, я обманываю себя. Ничего бы не изменилось, сколько бы мне не давали шансов, сколько бы времени не отмерили.
В его присутствии образ Олега блек и таял, отступал вглубь сознания, но не уходил. Его держал малыш. Звал обратно. Даже требовал. Помогал в борьбе с горечью безысходности, с преступной возмутительной любовью.
— Анюта, не убивайся ты так. Я рядом, и все будет, как надо. Точно. Мы будем вместе. Всегда. Как хотели, как мечтали.
Милый мой Сереженька, как же мне сказать тебе, что мы не будем вместе. Что наши мечты так и останутся мечтами. Они были не жизнеспособны, как и многие другие. Как масса других, уже убитых жизнью и оплаканных не менее яростно, чем эти.
Я стану матерью. И как любая нормальная мать, обязана думать сначала о ребенке, потом о себе. Потому не могу и не хочу обрекать его на ту же боль, что сжилась, срослась с ними. Мы прокаженные, и знаем, как жить таким. Но разве я хочу, чтобы и мой малыш познал, что это такое?
А что ж еще его ждет рядом с Сергеем? Иное? Нет.
Сережа будет хорошим отцом, быть может, много лучше, чем родной. И хоть он ненавидит Олега, ребенка эта ненависть не коснется, и никогда малыш не узнает, что отец на деле — дядя. Не узнает от Сергея. Но легко может узнать от тех добрейших блюстителей морали и добропорядочности, что населяют наш мир. Нет, я не могу рисковать, не имею права. Душа, познавшая ад, живущая в нем с рождения, не станет обрекать на него близких и дорогих ей людей. Нет. Я не дам малышу встать в наш поручный круг. Я не хочу, чтобы он прошел через то, что прошла я, чтобы жил с той же болью, что живу я. Не хочу, чтобы он узнал, как живут проклятые любовью, загнанные ею в угол судьбы.
А он узнает, стоит только сказать Сергею — да. Поэтому я скажу — нет.
И я жду ребенка Олега. Олега, а не Сергея! Иначе не может быть, иначе неправильно, несправедливо!
Впрочем…
Брат и сестра. И ребенок. Кому мы будем доказывать, что он не наш, кому докажем? С чем столкнется малыш, когда это станет известно? А ведь станет…
Нет, мне хватило косых взглядов и грязных сплетен, глупых домыслов, жестоких плевков в спину. И я не дам ему познать, что такое милосердие человеческое, понимание и доброта в самых возмутительных ее проявлениях, отраженных словно в кривом зеркале внешнего мира.
Мой малыш будет жить, как все, без бунтов и тайных пунктов. И пусть он будет жить и расти без отца, но это много лучше, чем жить рожденным в полной семье, в законном браке меж братом и сестрой. И тавро той печали, что горит на наших душах, обойдет его своей печалью.
— Анюта, у нас все будет.
— Ничего у нас не будет. Никогда.
— Ладно, как скажешь, — легко соглашается он. Но я вижу по глазам — не верит, не принимает. Он думает, я говорю это в состоянии аффекта, под влиянием стресса.
— Пусть. Как скажешь, так и будет, Анюта. Как захочешь. Ты только помни — я всегда рядом. И буду рядом, только позови, только обернись. Чтобы ни случилось, я рядом, котенок, навсегда….
Те дни и недели пролетели, как птичья стая в поднебесье памяти, и в ней же затерялись. Я их не жила, я их проживала. И уже ничего не желала. Внутри было пусто и сыро, как в нетопленом доме в непогоду. Холодно, до дрожи в каждой клеточке. В моих глазах умерла радость, печаль погребла ее вместе с верой и правила мной безраздельно. Я смотрела на свое отражение в зеркале и видела бесконечно уставшую, постаревшую и потускневшую тень от женщины.
Почему меня так потрясло предательство Олега? Я не могла четко ответить на этот вопрос, потому что ответов было слишком много, но ни один меня не устраивал.
Мне вновь, как в дни далекой юности, было горько от осознания собственной неполноценности. Ненужности. Я больше не ждала, что Олег одумается, придет меня навестить или хотя бы позвонит. Больше не верила, что нашу "разбитую чашку" можно склеить. А порой и не хотела склеивать. В такие минуты я вспоминала нашу с ним жизнь, старательно акцентируясь на самом негативном, но память, как специально вытаскивала картинки счастья и покоя, минуты понимания, единения и тепла.
В начале февраля, когда охрана братьев немного ослабла, я смогла дозвониться до родителей Олега и услышала недовольный, полный желчи и обиды голос свекрови. Она была резка и категорично заявила, что Олега для меня нет и не будет, номер этого телефона мне лучше забыть, так же, как и мужа. Свекор был чуть мягче и сказал, что Олег у них не живет, а значит и звонить им надобности нет. Я позвонила на работу и узнала, что Кустовский неделю как уволился, а в каком направлении планировал продолжить практику, они не в курсе. Друзья Олега ничего не знали, или не хотели говорить, что вероятнее. Каждый был по-своему язвителен и груб. Лишь один вскользь упомянул, что Олег теперь живет в пригородном поселке, но в каком, не уточнил и повесил трубку. Меня не коробили их ехидные реплики, резкость суждений и голосов, я просто не воспринимала их. Моя душа онемела и омертвела за эти недели и не пропускала сквозь свою воспаленную от непреходящей боли оболочку дополнительные плевки и оплеухи. Она напиталась ими, как губка водой, и отталкивала.
Если б не ребенок, требующий хоть что-то сделать, чтобы разрешить эту ситуацию, я бы, наверное, опустила руки и отдалась депрессии без остатка. Но мне приходилось заставлять себя бороться, насиловать мозг в поисках выхода и решения головоломки, что задал мне Олег, а может быть и сама жизнь.
И я, ломая себя, вновь набирала номер телефона, вновь выпытывала, выспрашивала, объясняла, порой унижаясь, и ненавидя себя за это, и в сотый раз выслушивала насмешки, бурчание, грубости. Готова была выслушивать их бесконечно, лишь бы в итоге найти мужа объясниться с ним или хотя бы посмотреть в глаза. Услышать еще раз то, что он доверил бумаге. Я не верила, что он сможет это повторить, услышав весть о ребенке. Он быть может, был слабым человеком, но, бесспорно, благородным. И узнав о моем положении, у него бы не хватило сил оттолкнуть, повторить жестокие слова, бросить окончательно и бесповоротно.