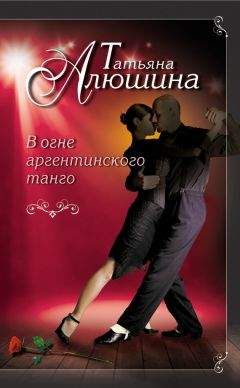Открыла глаза, попыталась пошутить:
– Ну хоть с ипотекой всё будет в порядке. А спасибо… не мне. Спасибо скажи Кислому… Или господину Верлену… кому угодно. Ты точно будешь счастлив, Анри. Улетай. И держи меня в курсе.
Шамблен понял, что пора уходить, снова прикоснулся губами к щеке:
– Я думаю, что всё наладится. Главное, ты сейчас должна встать на ноги. А потом ты тоже вернёшься, и мы что-нибудь придумаем. Смешно, наверное, слышать от меня такие слова, но если ты любишь её… И ты должна меня, наконец, с ней познакомить. Всё наладится. До связи.
Поднялся, ещё обернулся у порога и закрыл за собой дверь.
Майя полулежала на удобной больничной кровати, но ей казалось, что в тело воткнули тысячи жалящих игл. Диана живёт с другой девушкой. Быстро же она утешилась. Если вообще ей требовалось утешение: «Ты же знала, что она не способна на долгие отношения. Как мотылёк, махнула крыльями, и нет её».
Верлен уже не пыталась удержать текучие слёзы, сглатывая боль, чувствуя, как внутри копится лёд, постепенно погребающий под собой сполохи сердца, отрекающегося от лучезарных бессонных ночей, понимания без слов двух теней, слитых в одну…
Плохо зашторенные окна, тонкие стены, которые совершенно не глушат звуков. Ближе к пяти утра, в сереющей дымке проступают брошенные очки на столе с оспинами от затушенных об него сигарет, высокие стаканы с мутными пятнами от жирных пальцев, бумажные тарелки с остатками картошки и курицы, смятые пачки, посверкивающие синими огоньками, как автомобили на сигнализации, мобильники… В комнате холодно и сыро. Кажется, что вязкая мозглость, крадучись, вытягивает щупальца из плоских подушек, пробираясь под тонкие пледы из колючей шерсти. Небо тягуче потягивается, с каждым усилием всё больше розовея, словно разбегающаяся кровь приливает к остывшим щекам.
Ей – двадцать три. Она сидит, глядя на расстилающиеся сразу за застеклённой террасой фиолетово-золотой ливреей поля, опираясь прямой спиной на длинный валик от старого дивана, подтянув под подбородок колени. Острее выступают позвонки на шее, от падающей тени резче выделяются высокие скулы на похудевшем лице. Движущийся в медитативном трансе туман понемногу заплетается в рыхлые канаты, сворачивается в бухты тросов, время от времени выплёскивая парусный лоскут, словно стараясь задержать надвигающуюся алую мантию рассвета.
Она уходит в поисках нежных губ и грубых ласк, заливая вином и воском вены, безгласно корчащиеся от катастрофической неправильности настоящего, оглушительно молчащие и от невесомых прикосновений, и от скребущих по коже жадных ногтей. Снова и снова пытается разжечь себя, но потом легко и упруго поднимается с колен и, становясь иглой, ускользает прочь сквозь сизые клочья корчащегося от горечи тумана. Надо ехать. Ехать и искать…
Через несколько дней её забрали домой, и Майя, становясь всё более молчаливой и безучастной, бродила тенью по знакомым с детства комнатам, замирала у окон, наблюдая за прохожими, автомобилями, полицейскими, туристами, ни о чём особенно не задумываясь. За то время, когда Майя включила телефон, Диана не позвонила ни разу. Шамблен тоже пока не звонил. Значит, всё так же, значит, Диана, действительно, нашла себе новую подружку.
Верлен стала уходить из дома, останавливалась на набережной или в саду Тюильри и медлительными часами сидела в одиночестве на лавочке, с отстранённым удивлением рассматривая на ладонях красные полумесяцы от ногтей, и читала прозу Марины Цветаевой, в том числе и «Письмо к амазонке».
Думала: «Это „Письмо“, которое ты читала с Мартой, многое мне объяснило. Я понимаю тебя, Ди. Понимаю, чего ты испугалась. О чём ты подумала. Но, мне кажется, у меня всё по-другому…
Охотилась на крупного зверя, шла по следу, сначала остывшему, потом – всё горячей и горячей, и упустила из виду, что другой охотник уже дышит мне в затылок. „Так вышло“, „так получилось“ – меня всегда бесили эти фразы, но их так любят повторять в России. Рок, судьба, предназначение… Судьба словила меня, словила Шамблена, словила Солодова… У каждого своя.
Всё затихает. Просто нужно съёжиться, и пусть отболит. Заживёт. Станет спокойней пульс. Не буду замирать на половине фразы, потому что судорожный рассудок вдруг вспухает и начинает что-то шептать про то, что там, за спиной, уже понемногу начинает дымно горчить удаляющееся лето, и, может быть, у моего дома кто-то стоит, запрокинув голову и высматривая, есть ли свет на верхнем этаже… Я могу представить лицо, глаза и даже назвать имя той, кто стоит там. Но оглянешься – нет никого, кроме гладящей спину охрипшей пустоты. Это пройдёт. И я снова научусь спать».
Смотрела на облака, птиц, слушала кричащие басом небольшие катера, замечала, что ветер густеет, вода становится тяжелее, и надвигается вечер, и солнечный луч падает в пыль прямо перед ней, щекоча ступни в босоножках.
* * *
Вернувшись с одной из таких прогулок, подошла к матери, села на пол возле колен, помолчала, глядя прямо перед собой, негромко спросила:
– Скажи, где вещи моей сестры?
Софи, кажется, ничуть не удивилась, ласково погладила по растрёпанным кудрям:
– На чердаке, на левой половине. Там твои детские, братьев и Марты. Там и то, когда она училась в Сорбонне, и то, что мы привезли из Петербурга.
Майя кивнула, осторожно поднялась, придерживая в перевязи левую руку, и ушла. Пройдя по узким крутым ступеням, отомкнула дверцу и проникла в большую комнату, в которой в разных углах стояли коробки, чемоданы и в самом дальнем углу – любимый старинный сундук, в котором хранились Майины рисунки, альбомы, тетрадки, игрушки, с которыми она так и не смогла расстаться. Множество мелочей, которые и есть – детство: браслетики, пряжки от ремней, праздничные туфельки, любимая чашка, заколки для волос…
Подумалось: «Разбираться тут неделю можно. Что ж, всё равно заняться нечем». Через несколько часов Майя сидела на полу, прислонившись спиной к стене, перебирала найденные в одной из коробок рисунки. Среди множества набросков – образы безусловно угадываемой Ольги Карли, не больше десятка: вот она в летящем прозрачном платье, идёт в небо еле слышными шагами, опираясь носочками на подкладываемые чьими-то руками облака; вот в узком окне вскипает мрак, но во взгляде сквозь свечу нет ни страха, ни тревоги, только тёплая грусть; вот она – в балагане, где кто-то разгибает подкову, вокруг гимнасты, жонглёры, а Ольга запрокидывает голову и смеётся; вот – брошенный на пол толстый матрас, непрочный, зыбкий, стеснительный уют, и простынь на спящей скрывает совсем немного…
Верлен покрутила рисунки, на обороте стояли даты. Если бы Марта не имела привычки их ставить, можно было бы подумать, что везде – Диана… Что ж, можно звонить Шамблену и говорить, что здесь они точно не ошиблись.