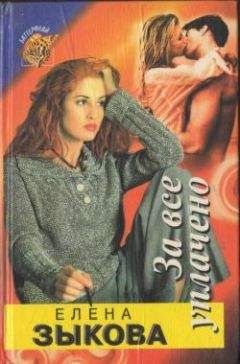– МЫ сделали?! – ударила Нина на «мы». – Ах ты мразюга вонючая! Мы! Поимел девку, обрюхатил, портки натянул и сбежал, а теперь толкуешь, что оба виноваты? А по глазкам твоим сальным я ж вижу, что ты прикидываешь, как бы меня опять на старое поймать, разжалобить да на сеновал завалить.
– Подожди, подожди! – Борька, кажется, даже испугался. – Так ты что, на сносях тогда была?
– Была! Но помер твой ребенок! Медики его ножиками порезали и в канализацию спустили!
– Да я ж не знал про то!
– А знал бы? Ну, не ври! Честно скажи, вернулся бы в деревню, обженились бы мы с тобой?
Она видела, что поначалу Борька собрался соврать и сказать, что да – вернулся бы и они поженились. Но не тс уже времена и люди они взрослые. Борька отвернулся и тихо проговорил:
– Нет, Нина. Я тебя тогда не ценил, да и не любил. Не вернулся бы я в деревню эту сраную. И ты для меня простой деревенской девкой была, просто баба с птицефермы. Ебалка с трактором.
Нине до боли хотелось спросить его, а как же он сейчас ее оценивает, в каком виде для себя представляет, но она удержалась, чтоб не слышать его глупостей. Умного ведь ничего не скажет.
А главное в том, что по засалившимся, плотоядным глазкам Борьки она видела, что не разговоры разговаривать ему сейчас хочется, а затащить ее куда-нибудь в тихий уголок, задрать юбку, сдернуть с нее трусики и заняться кобеляжьим делом. И самое-то обидное, как понимала Нина, что он даже не удовольствие от нее хотел получить, как мужчина от женщины, а приятно ему было, приятно мечталось потом где-то среди друзей похваляться, что отодрал в деревне бабу, которая в столице, в Москве на телевидении работает и се на экране телевизора можно увидеть. А он, молодецкий Борька, ее на сеновале драл всю ночь и так, и эдак, и как хотел.
– Ты, Боря, себя не волнуй, – сказала она насмешливо. – Я к тебе никакого такого интереса не имею.
Он понял, насупился и, когда они дошли до магазина, сказал:
– А говорят, что бабы всегда дают тем, кто у них первым в жизни был.
– Захотелось?
– Ну? Первый же я.
– Ну и что?
– Да то. Должна, значит, покладистой быть.
– Всю жизнь, получается, под тебя ложиться? Хорошо решил устроиться. Заскучаешь при своей торговке, слетал в Москву и всю свою дурь в меня спустил.
– Так я же не просто так, – начал было Борька.
– А как?
– Любовь у нас будет. Не как у молодых дураков, а настоящая, серьезная.
Она засмеялась и старалась смеяться, пока Борька не покраснел, не заелозил, понимая, что чепуховину порет.
– Да что ты в любви-то понимаешь, Борька?! У меня за эти годы мужиков было, больше чем волос у тебя на голове, а к любви я ни разу и не приближалась! Да и ты сам-то подумай, вспомни всех баб, которых на койку заваливал, да любил ли ты кого по-настоящему, готов ли был за нее умереть не раздумывая? Была ли хоть одна из них у тебя каждый день так в душе, что и до вечера без нее дожить не можешь?!
– Моя Зойка для меня...
– Да знаю я, что для тебя твоя Зойка! Жратву на стол ставит, бутылку по воскресеньям, пыхтит с тобой под одеялом, когда ты ее возжелаешь, вот и все. Это, думаешь, любовь?
– А что? – сбычился Борька.
– А то, что при этом ты и мне такой блуд предлагаешь!
– Зазналась, сука, – мрачно сказал Борька. – Думаешь, что столичные пижоны тебя имеют в зад, да в рот, так и ты от этого интеллигентной, культурной стала? Ошибаешься, Нинка. Как сидела на тракторе, такой и осталась. Губы помадой накрасила, а сопли из носопыры все равно те же, деревенские текут.
И вдруг Нина поняла, что сейчас Борька прав, прав на все сто процентов! Что с первых минут, как приехала она в родную деревню, так тут же и мыслить, и разговаривать, и вести себя стала так, словно она никуда не уезжала, словно сейчас посидит за столом, потрахается на сеновале с Борькой, отоспится, а завтра на зорьке встанет, да усядется за руль своего трактора и поедет пахать борозду.
Она даже засмеялась дико от удивления, а Борька глянул на нее как на сумасшедшую.
– Ты что?
– Ничего. Уеду я завтра.
Он улыбнулся с осуждением и презрения в голосе на покривившихся губах скрывать не стал.
– Не по нутру пришелся родной дом, да? Навозом шибко воняет да культуры мало?
Она отвернулась от Борьки и вошла в магазин в надежде купить там Комаровскому и Воробьеву какой-нибудь смешной подарок. У них это вошло в обычай, дарить друг другу какие-нибудь смешные и забавные мелочи. То какие-то старые галоши привез Воробьев из Актюбинска, то Комаровский нашел где-то для Нины утепленный лифчик на кроличьем меху.
Но в магазине ничего не было. Просто ничего. Ни продуктов, ни товаров. У одной стенки стоял детский велосипед, на полке лежали пакеты с сухой горчицей.
– Ты что здесь при таком ассортименте торчишь, Вера? – спросила она продавщицу.
– Деньги платят, и торчу, – лениво ответила она. – В пять закрою, к тебе в дом приду. Расскажешь, как ты там в телевизор попала?
– Расскажу, – безнадежно ответила Нина, хотя понимала, что рассказать так, чтоб это было понятно, она не сможет. И не потому, что Вера глупа, а просто это получится сказка из жизни иных миров, и никто ей не поверит.
Она вышла из магазина и увидела, что Борька уже поспешает обратно, к столу. Испугался, видать, что выдуют всю самогонку и ему ничего больше не достанется. И про всякую любовь забыл. Эх, и мужик нынче пошел! Отваливает в сторону при первой же неудачной попытке. А был бы поласковей, поосторожней да понастойчивей без хамства, так ведь и неизвестно еще, как бы дело к ночке повернулось. Ведь как там ни рассуждай, а все-таки он, Борька, – первый!
Возвращаться в дом Нине не хотелось. Она обошла церковь стороной, пересекла поле и присела на обрубок дерева на краю дубовой рощи.
В голову пришло где-то вычитанное или услышанное изречение, что-де родная земля питает человека могучими соками жизни.
Нина сидела и прислушивалась, питает ли ее родная земля этими соками. Ничего подобного не чувствовалось. Кто и как мог питать? Или это происходит в подсознании и человек просто не ощущает такой подпитки, а сказывается она позже, сама собой?
Нина тихо засмеялась, подумав, что бы по этому поводу сказали ее друзья. Андреев, понятное дело, поджал бы сухие губы и сказал: «Никто нас ничем не питает, кроме самих себя. Афоризм этот – очередная банальная пошлость, выкинь его из головы». Воробьев бы долго раздумывал, пытаясь проникнуть в смысл изречения, а потом ответил бы неопределенно: «Может быть... Хрен его знает. Есть вещи, которые мы не понимаем, но пользуемся ими. Никто не знает до сих пор, что такое электричество. А лампочки горят и холодильники работают. Познать все нам не дано. В том-то и счастье». Комаровский поначалу бы засмеялся, а потом объявил что-нибудь в таком духе, что питает нас хороший ресторан да горячая партнерша под одеялом. Ну, а верная Наталья сказала бы, что вопросы подобного рода настолько праздное занятие, что она о них не думает.