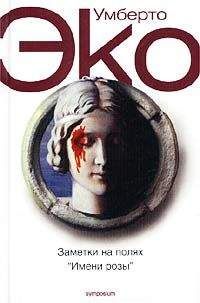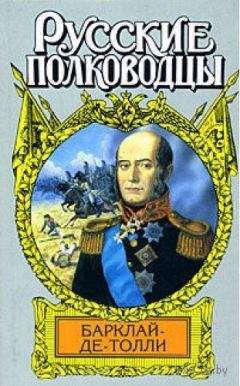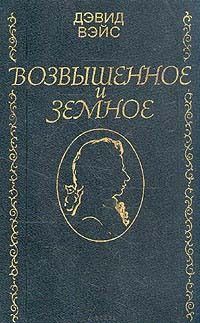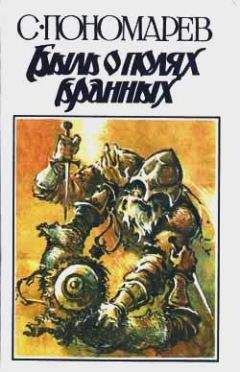«Эх, Моська, тебе-то всё ведомо об элефантах и прочих могучих существах, заслоняющих полнебосклона!» Михаил ответа и не ждал, просто улыбнулся в ответ, протянул к безродной собачке ладони и принялся её гладить и чесать, а та покорно то подставляла бока, то вытягивалась, чтобы Михаил прошёлся по холке и грудине. И от радости тактильного контакта заиграла хвостом, то вжимала, то расправляла треугольнички ушей. И вот в такой прицельной планке вновь попалась ему горевшая красным фигура Гения.
Неужели он и впрямь теперь участник титаномахии, сражений каковой не видит, поскольку не может объять разумом? На чью же сторону ему стать, если верно, что воздушный флот сопричастен несущим разрушение и гибель силам? Или им, гигантам, он бесполезен? А потому, быть может, ему и в самом деле стать завсегдатаем того клуба, не смешить всех ничтожными попытками на что-то повлиять? Он бесполезен уже хотя бы потому, что неуч. Неуч и неудачник. Чем кончились его опыты с наручем? Провалом. Чем увенчался допрос его владелицы и попытка наблюдения его действия? Крахом. Как можно охарактеризовать его сегодняшний дебют? Фиаско.
Что же делать ему? Упиться монологом Гамлета, решать: умереть, уснуть? Или воззвать к кому-то за тайным знанием? Михаил отчаянно вспоминал всех греческих и римских божеств — да просто всех, каких помнил и о каких когда-то слышал. Но всё равно не знал, к кому выгоднее — пф, «выгоднее»! — обратиться и как. Он мог лишь просить о знаке. О понятном, доступном знаке. Михаил обрёл внезапную лёгкость и ясность. Что-то — нет, не тень, — поднялось из глубин памяти и воззвало к нему строками гимнов.
Михаил перевёл дыхание, вдохнул и выдохнул полными лёгкими, посмотрел в преданные глаза, отставил большие пальцы, держа ладони на шёрстке. И сдавливал шею. Медленно, уверенно. И смотрел в полные непонимания карие глаза. Продолжал давить, отыскивая фалангами пульсацию сосудов. Она сопела, извивалась, прогибалась. Он придавливал её к земле и душил. Хвостом протестовала, лапами била — голос был отнят. Он заглядывал в угольки тлеющей души, его собственный взгляд заволокли тающие льдинки слёз. Она замерла. Он продолжал, пока не повис над ней и не услышал хруст. Шерсть терново впивалась в пальцы. «Тебе, Геката!» — воздел он окровавленные руки к небу, затем, скрывая нервную, болезную, кривую улыбку, закрыл ими лицо с такой яростью, что брызгами окропил и хладное тело подле него, и перекрёсток, и, казалось, само небо — и наложил на себя красную маску-печать.
Позднее субботнее утро было серым от высокослоистых облаков, но особого облегчения от жары не приносило. Настроение у обоих пассажиров фиакра был отвратное. Практически буквально: в экипаже, что нёс их из шестого округа в седьмой и далее на тот берег, они предпочитали сидеть, отвернувшись друг от друга. Но причиной тому была не ссора — тщетная надежда, что вот-вот кончится кошмар, сведший их вместе. Что, если привязанность — каковой бы ни была её природа, — только поддержит его продолжение? Что, если только устойчивого предощущения пустоты от исчезновения кого-то из них он и ждёт? Впрочем, в этом «что, если» было больше страха, нежели расчёта.
«Утрата, — привела к одному знаменателю Селестина последние произошедшие события и встреченные явления, — вот лейтмотив Спектакля. Да только какую личную, непременно личную утрату конвертирует сценарист в утраты других? Но в то же время и такую, что её разделяют иные „высшие“ театралы? Или их следует считать первыми жертвами?»
«Потеря, — подвёл черту под серией неких умозаключений Мартин, — но вот чего? Совет пытается отыскать что-то — прежнее или новое — либо же лишить этого и остальных? Вводят нехватку через сочувствие потери. Но что дальше? Тут же предложат избавление раз и навсегда? Или лекарство окажется по эффекту временным, и они ввергнут всех в зависимость? Второе куда доходнее, сулит долговременную прибыль и нескончаемость же представления. Но как при этом не отвратить от города интерес? Какой мираж, скрывающий терзания натуры, наведут?»
— Мартин, ну почему людей так притягивает зло?
— Должно быть, дело в люциферомонах.
— А вдруг мы тоже под их чарами?
— В этом случае мы меньшее зло, и руки наши развязаны.
— И вас это не смущает и не пугает?
— Не особо, пока благодаря этому удаётся избежать потрясений и войн.
— Будто мы и так их не ведём. — Кому и какой был толк от отчуждения?
— Ведём, но мы стараемся удерживать их в пределах нашего круга. Сам диаметр окружности становится задачей. Хотя иногда и резкое его уменьшение не приносит удовлетворения. — Кому и какой был толк от наигранной апатии?
— Будь возможность вернуть ту ночь, вы бы поступили иначе?
— Если бы знал ровно то же, что и тогда, то нет. Я поступил так, как поступил. Уверен, что к чему-то подобному рано или поздно всё бы для них и свелось.
— Ну, да, Сёриз бы согласилась.
— Но не вы. — Мартин придвинулся к Селестине и прошептал: — Разве пришёл бы из штаба приказ, в результате которого их ждало что-то отличное от выбора умереть или стать этантами? Не подчинились бы вы ему? Не уберегли бы город от…
— А от чего? — если и можно кричать шёпотом, то Селестина сейчас это и делала. — Кого-то можно было арестовать, допросить, найти способ отвратить от замышляемого, иметь какие-то реальные зацепки! Н-нет, не могли бы…
— Да, увы. Если от этого хоть чуточку станет легче, то знайте: в каком-то смысле они были освобождены от ответственности, их гибель была только их гибелью, без жертв и не по указке.
— Ну откуда предвзятость о смертоубийственном терроре?
— Полагаю, то, что это именно террор, оспаривать вы не будете: вы власть, а они предпринимают действия, ведущие к вашему уничтожению. Но покажите мне переворот без яда, петли и кинжала — и хотя бы одного таинственного исчезновения случайных людей вроде прислуги. Покажите мне революцию без крови — без неё не обошлась даже метафорическая промышленная. Покажите мне войну без сирот — иной раз и они встают под ружьё, довершая дело павших отцов. Простите. И, конечно, историк парирует каждое моё слово, найдёт примеры, но вспоминаем-то мы не их, — и в том не то заслуга человечества и сдерживающий фактор, не то беда, порождающая набор шаблонов, вне которых ленимся мыслить.
— Мартин, почему человечество не может без войны?
— Возможно, потому, что война — философский камень. Что, как не она, обращает свинец в золото?
— И мифологией героизма — неблагородное в благородное… М-да, не то алхимики искали.
— Или пока что человек не может и не готов преобразиться, вознестись над этим, разорвать круг.
— …Нам вернуться суждено ли к нашим близким навсегда? Ждёт ли нас приют последний в небесах? В небесах… — Селестина тихонько затянула песню куда-то в тускую даль горизонта, накрытого не знающим разрывов саваном. Бледное, водянистое Солнце проронило слезинку — шедший на снижение светлый дирижаблик.
Фиакр въехал на Альмский мост, следом птичьего помёта по стеклу черкавшего штилевую гладь Сены. Ещё двести тридцать — двести двадцать ярдов. Всё могло обойтись простым, хоть и нервным, наблюдением. А если нет, то в этот раз Мартин подготовился. Начать стоит хотя бы с установленной Директоратом слежки за Энрико — и по флю-мируа, и старыми проверенными прятками за углом. Не удалось установить, откуда к нему в ранний час пришёл связной Бэзи, но на обратном пути его уже сопровождали — со старыми проверенными прятками. Анри же приглашали во Дворец конгрессов, социально-экономических наук и всего такого — в общем, на территорию неизбывной Выставки. Анри и некоторым другим особым гостям дозволялось прибыть на место ещё за несколько часов до того, как глашатаи на улицах обратятся ко всем желающим с предложением посмотреть на уникальную художественную коллекцию. Однако Мартин намекнул Энрико, ещё румяному от пути до сданной Мартину квартирки и подъёма по лестнице, что лучше попридержать рвение и сберечь силы для вечера: все уже выдохнутся, а Энрико будет блистать и конкурентно недосягаем. Прошлый совет задержаться сберёг Энрико жизнь, а потому спорить он не стал. Не отказался и от предложения пропустить по чашечке кофе у Клемана и Эмери. Что, впрочем, для Мартина было обманным манёвром: так он не давал другу ввалиться внутрь и застать там Селестину и Сёриз, прошедшей ночью осторожно делавших вылазки до квартиры Энрико и проверявших, не заснул ли поставленный там наблюдатель. Cпровадив Энрико «растормошить хозяев», первой он наказал дожидаться его возвращения здесь и сверху приглядывать за улицей, а второй вручил свой саквояж, — Сёриз приняла его с опаской, — и велел отправляться ко дворцу тотчас же, но выбрать хорошую точку обзора, хоть это и будет непросто из-за расположения Пале-де-Конгрес, и держаться на расстоянии, просто отмечая происходящее — очень нужно знание перспективы. Мартина упрекнули, что он раскомандовался. Месьё Вайткроу же пообещал принести все полагающиеся извинения и добавить комплимент сверх того за столиком «Café de la Paix» или «Café Anglais» — на выбор дам. «Кузины» де Кюивр с удивительной кротостью и учтивостью изволили принять предложение. А ранее мимо их внимания прошло, что саквояж стал легче на две колбочки из упокоенных в нём, — их Мартин отправил в карманы пиджака, — это был крайний вариант, грязный, отчаянный и самоубийственный, к которому не стоило бы подводить события, но и исключать его было нельзя. Мартин предполагал, что Директорат дополнительно оцепит — ну, или «экранирует» — дворец, однако выяснилось, что поддержка будет минимальной: Совет вновь проявлял чудеса хронургии, представляя «салон» в день, когда Луна едва-едва — и лишь часа на три-четыре — приподнимется за, чтоб его, двадцатый азимут. Строй мыслей обрывался скрипучим шорохом и клокочущим гулом экипажа. Мартин переместил иглу на воображаемом фонографном валике, оплавленном тягучим зноем, и вновь проиграл себе вопросы Селестины.