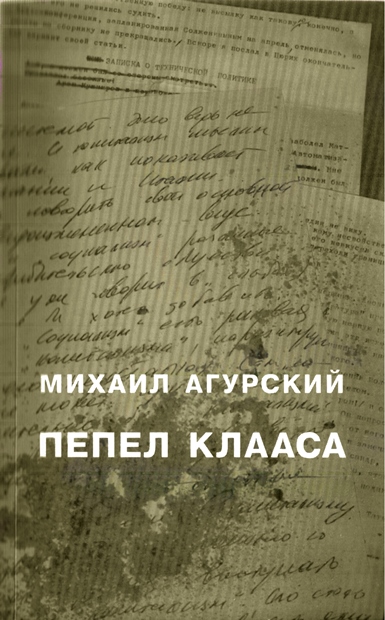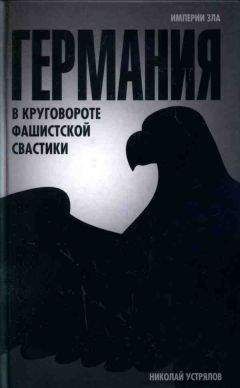Блока говорил, что большевистскую революцию тот принял лишь постольку, поскольку она воплотила в себе «русскую народную, бунтующую душу». Чуковский считал Блока «крайним националистом», «который, не смущаясь ничем, хочет видеть святость даже в мерзости, если эта мерзость родная...» [5].
Блок сближается главным образом с левыми эсерами, и его наиболее важные произведения в это время печатаются именно в левоэсеровских изданиях. После их разгрома Блок разочаровывается в большевиках как носителях революции. Впоследствии он подчеркивает, что революция в России кончилась летом 1918 года, и, как бы извиняясь за свою поэму «Двенадцать», утверждает, что она была «написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех мирах природы, жизни и искусства».
Но отход Блока от большевиков как русской национальной стихии нашел выражение лишь в некоторых недостаточно известных статьях и докладах, в то время как его революционные поэмы навсегда остались документами эпохи. Наконец, его разочарование в большевиках как конкретной политической силе вовсе не изменило его коренного революционно-мистического национализма. В апреле 1919г. он выступает с докладом, объявляя народ хранителем культуры в отличие от интеллигенции. При этом любое стихийное движение, восстание, революция, бунт толковались Блоком как явления высшей духовной ценности. Он выдвигает понятие культуры в отличие от цивилизации, предварив Шпенглера на несколько месяцев.
Как и Шпенглер, Блок утверждает, что цивилизация начинается только тогда, когда погибает культура. Культура — это итог мистического творчества, когда все области жизни являются ее сферой. Лишь потом начинается цивилизация, представляемая как материальный бездуховный процесс. В Европе XIX век был концом культуры и началом цивилизации. Противопоставление культуры и цивилизации не имело бы национального подтекста, если бы не утверждение Блока о том, что никакая масса никогда не была затронута цивилизацией. «Цивилизовать массу не только невозможно, — утверждает Блок, — но и не нужно». Хранителем культуры оказывается народ. «Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, — иронизирует он, — то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом — цивилизованные люди варваров или наоборот, — так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурные ценности. В такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы».
Именно это оправдывает в глазах Блока революцию, делает ее национальной: вывод, которого Блок не делает и который, однако, напрашивается. Поскольку основным элементом культуры для Блока является музыка, то именно народ и оказывается «хранителем духа музыки». «Варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, когда обескрылевшая и отзвучавшая цивилизация становится врагом культуры», — провозглашает Блок.
«Один из основных мотивов всякой революции, по Блоку, — мотив о возвращении к природе», мотив существенно музыкальный и похоронный для цивилизации. Стало быть, любая победившая революция должна сама собой вести к восстановлению музыкального, т.е. народного начала.
Быть может, Блок считал уже в 1919 году, что в ходе большевистской революции цивилизация вновь победила культуру, но это могло случиться не в результате победы революции, а в результате ее неуспеха.
Ясно, что, приняв точку зрения Блока в принципе, легко было считать вопреки ему, что революция была все же успешной, а тем самым сугубо национальной:
Другим видным религиозным мистиком, не только приветствовавшим новую Россию в начале революции, но и сохранившим ту же веру до самой смерти в 1934 году, был известный писатель и поэт Андрей Белый, которого многие считают самым крупным русским писателем двадцатого века. Белый (Бугаев) подвергался различным влияниям. Вначале он был всецело под обаянием Вл. Соловьева, но затем примкнул к антропософскому движению, причем принял участие в постройке антропософского храма «Гетеанум» в Швейцарии. Но и в увлечении Соловьевым, и в увлечении антропософией у Белого оставался общий знаменатель — глубокая преданность свободному христианскому мистицизму в его гностической форме, причем Белый с его гениальным художественным талантом был искусным мастером мистического толкования происходящих событий как человек, считавший себя одаренным свыше видением эзотерических тайн мира.
Мистическая диалектика развилась у Белого с раннего детства. В. Ходасевич утверждает, что Белый с детства полюбил «совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть, добро во зле и зло в добре».
Но от простого созерцательного гностицизма Белого отличала еще и наклонность к теургии как средству активного изменения мира в сотрудничестве с Богом. Это был еще один общий его знаменатель с Соловьевым и Штейнером. Соловьев вплоть до последних лет жизни исповедовал теорию Богочеловечества, согласно которой человек, как соработник Божий, должен был активно участвовать в не закончившемся еще сотворении мира. Правда, Соловьев признавал лишь мирное творчество — либеральный прогресс, в котором разочаровался лишь перед смертью. В то же время в антропософии Штейнера видное место занимает революция — как могучее теургическое средство изменения мира, несмотря на ее видимое зло, ибо она есть инструмент создания нового мира.
Признанию Белым Октябрьской революции предшествовало горячее признание Февральской. Она для него, как последовательного революционного мистика, носит творческий, созидательный характер, и его нисколько не отталкивает насилие. Он сравнивает революционные силы со струями артезианских источников. «Сначала источник бьет грязно; и косность земная взлетает сначала в струе, но струя очищается, революционное очищение — организация хаоса в гибкость движения новорождаемых форм». В этих рассуждениях жизнь человеческая превращается в метафору. Насилие же представляется эффектно — артезианской скважиной, причем говорится не о крови, а о грязи, так что насилия вытесняются из сознательного мышления символом. Октябрь Белый встречает величественной поэмой «Христос воскресе», где революция уже сравнивается не с артезианской скважиной, а превращается в мировую мистерию, уподобляясь распятию и воскресению Христову. Евангельские события служат для Белого надмирной моделью всякой катастрофы, завершаемой спасительным воскресением.
Но Белый задумывается не над страданиями всего человечества. В центре его волнений судьбы России. Он с негодованием обращается к тем, кто оплакивает ее судьбу:
Разбойники и насильники мы,
Мы над телом Покойника
Посыпаем пеплом власы
И погашаем светильники.
В прежней бездне безверия мы,
Не понимая, что именно в эти дни и часы
Совершается мировая мистерия.
«Покойник» — это Россия. Она «ныне невеста», которая должна принять «весть весны». Распятая, как и Христос, Россия должна воскреснуть со славой:
Россия, страна моя,
Ты — та самая облеченная солнцем жена
Вижу явственно
Россия моя богоносица, побеждающая змия,
И что-то в горле у меня сжимается от умиления.
Даже