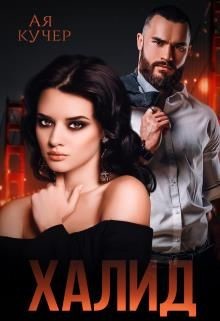и к местным коммунистам. Для него вопрос о том, что делать с национально настроенной интеллигенцией, был одним из самых насущных вопросов партии в Средней Азии [786]. Национальное размежевание создало более однородные республики и дало партии ощущение большего контроля над кадрами. Уверенность, вызванная этим ощущением, заставила партию стремиться к более жесткому надзору над местной культурной жизнью. Открытие «идеологического фронта» в Узбекистане было частью общесоветского феномена, поскольку партия повсюду стремилась прижать национальную интеллигенцию к ногтю, но в Узбекистане начало кампании было целиком и полностью обусловлено местными событиями и возникшим у партии ощущением собственного могущества.
Впрочем, движущей силой открытия «идеологического фронта» были органы госбезопасности. Как совесть режима и хранитель его идеологической чистоты, ОГПУ было застраховано от коренизации. Хотя оно располагало большой сетью местных осведомителей (судя по внушительным объемам собранных ими материалов, численность их должна была быть поистине велика), его аналитический персонал в Средней Азии почти полностью состоял из европейцев [787]. ОГПУ сделало борьбу с национализмом своей главной задачей. (Аналогичная борьба с «великодержавным шовинизмом» не велась; у среднеазиатских европейцев искали только национально нейтральные политические грехи: оппозицию или отклонение от линии партии.) В январе 1925 года, как раз в период образования Узбекистана, это ведомство инициировало создание Комиссии для разработки вопросов о привлечении внимания партии к работе ОГПУ по борьбе с буржуазно-националистическими группами и контрреволюционной идеологией, объединившей сотрудников ОГПУ и высокопоставленных партийных и правительственных деятелей. Согласно Л. Н. Бельскому, долгое время возглавлявшему ОГПУ в Средней Азии, «ни для кого не секрет», что те, кто «воевал с нами пять лет… не разбиты ни физически, ни духовно и что влияние их на массы еще весьма огромное». Эта ситуация, по мнению Бельского, усугублялась стремлением «мелкобуржуазных правительств» мусульманских государств, граничащих со Средней Азией, «застраховать себя от решительного влияния СССР и от притягательного примера образца Среднеазиатской советской государственности». В Средней Азии внутренние и внешние формы контрреволюции переплетались особенно тесно. Поэтому в задачи советской власти входила «строгая борьба со злостной национальной интеллигенцией путем выявления их панисламистской и продажно-англофильской сущности» [788]. Налицо все страшилки: и панисламизм, и иностранная интервенция, и контрреволюция, принявшая вид национализма местной интеллигенции. Эти темы широко обсуждались в ходе последовавших нападок на интеллигенцию.
Как и многие другие советские категории, национализм оказался понятием весьма растяжимым. Шпионами ОГПУ был накоплен огромный свод материалов (отчетов о подслушанных разговорах, перлюстрированной переписки, тайно переписанных выдержек из личных дневников, доносов), которые их начальство использовало в своих докладах в качестве доказательств. Под «национализм» подпадало буквально все: от открытого осуждения советского строя (нередко приписывавшегося джадидам) до недовольства темпами осуществления советской политики. Так, заметка в сатирическом журнале «Муштум» о парадоксальном явлении («хотя коренизация – вопрос чрезвычайный, но если его поставишь – получишь обвинение в национализме» [789]) в глазах ОГПУ являлась доказательством национализма в среде узбекской интеллигенции. По сути дела, эта тема стала страшилкой для ОГПУ, которое рассматривало «разговоры о коренизации» как «проявление современной тактики антисоветской борьбы узбекских националистов: внедрение в советский аппарат, партию, подготовка молодежи и т. д.» [790]. Учитывая, что многие узбекские коммунисты смотрели на коммунизм сквозь призму нации и антиколониализма, определение, даваемое национализму ОГПУ, могло грозить опасностью даже членам партии. Поэтому неудивительно, что от подозрений не был избавлен никто. В этом огромном архиве фигурируют имена всех до единого общественных деятелей. Для ОГПУ никогда не составляло труда отыскать изобличающие доказательства вины тех, кто попадал в его лапы.
Весной 1926 года ОГПУ произвело ряд арестов лиц, которых оно охарактеризовало как «бывших руководителей вооруженных выступлений против Советов»: С. Мирджалилова, А. А. Махмудова и У А. Ходжаева [791]. Эти деятели, имевшие отношение к Кокандской автономии, остались непричастны к советским институтам. В 1922 году они встречались с Орджоникидзе, и ОГПУ заподозрило их в руководстве местным националистическим подпольем. Мирджалилов был приговорен к трем годам принудительных работ на Соловках, после освобождения сослан в Сибирь, где вскоре и закончил свою жизнь [792]. Ходжаеву было разрешено вернуться в Ташкент и вести спокойную жизнь до последнего ареста, произошедшего в 1931 году [793]. Махмудов в октябре подвергся длительному допросу в ОГПУ, после чего был освобожден. Он оставался под подозрением, однако умер своей смертью в 1936 году. Примерно в то же время под арестом оказался и Кадыри – не за прошлые прегрешения, но за недавний проступок: в остросатирическом произведении, опубликованном в феврале 1926 года на страницах «Муштума», он жестоко высмеял А. И. Икрамова [794]. Партия вообще настороженно относилась к журналу: в предыдущем году жалоба на злопыхательское изображение заместителя председателя Сырдарьинского облисполкома дошла до самой Москвы [795]. Теперь же провинность Кадыри, по-видимому, обеспечила возможность поставить его на место. Кадыри провел в тюрьме несколько месяцев, ожидая суда. Он был прощен, но больше никогда не сотрудничал в прессе и до конца своих дней зарабатывал на жизнь литературным трудом и переводами [796].
Аресты сопровождались массированной словесной атакой на джадидов, которой руководили правоверные партийцы. Вне всякого сомнения, за этими нападками стоял Зеленский, однако осуществляли их Икрамов и его друзья – «молодые коммунисты», отобранные для руководства Компартией Узбекистана. Ими двигали идеологический радикализм вкупе с раздраженным отношением к старшим товарищам и необходимостью демонстрировать партийным властям свою преданность. Фракционную внутрипартийную борьбу следовало вести посредством радикализации своих противников, хотя порой насущные потребности фракционной борьбы даже перевешивали необходимость производить впечатление на партийное руководство. Развернувшаяся дискуссия велась на большевистском языке и была сосредоточена на том, насколько джадиды и джадидизм подходят под политические категории нового режима. «Политическая сущность» джадидов и джадидизма теперь должна была оцениваться задним числом, по внешним, относительно их собственного опыта, критериям. Учитывая, что в глазах джадидов класс не являлся значимой категорией и что до 1917 года у коренного населения не существовало социалистических организаций, неудивительно, что в ходе полемики все джадиды были признаны идеологически и политически подозрительными. Но, самое главное, новые критики джадидизма неразрывно связывали культурную деятельность джадидов с их недолгой политической активностью в 1917–1918 годах, которую, в свою очередь, вписывали в характерный формирующийся нарратив о зарождении советской власти, лишенный среднеазиатского колониального аспекта. Партийная постановка вопроса в такой манере существенно трансформировала критерии полемики в Узбекистане.
События достигли кульминации накануне I Всеузбекского съезда культпросветработников в январе 1926 года. Он задумывался как встреча узбекской интеллигенции для обсуждения культурной политики во вновь созданной республике, но, помимо этого, давал партии возможность отделить простых работников культуры от ставших ненужными «старых интеллектуалов». Перед съездом в печати появился ряд статей с критическим