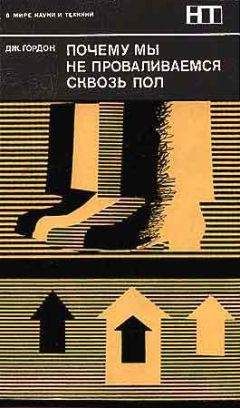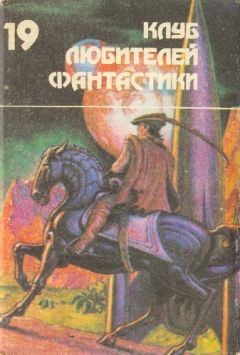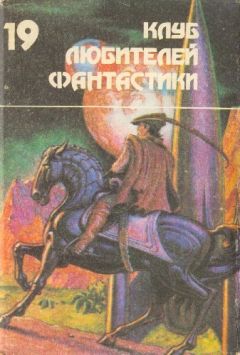якобинства, отвергал тенденцию «от идеализации и прославления якобинцев… перейти к их безоговорочному осуждению» и тем самым «интегрироваться в очень давнюю и ныне весьма влиятельную антиякобинскую историографическую традицию». Адо предостерегал от «повторения не лучших наших традиций – на смену одним мифам создавать иные» [1223].
Дело было не просто в политической конъюнктуре Перестройки, а в глубинных подвижках общественного сознания. Не случайно в научных обсуждениях 1988–1990-х гг. стал прорисовываться конфликт поколений в отношении главного вопроса – приемлемости революции как формы исторического прогресса. Тем, кто создавал советскую историографию, было свойственно, говоря словами Пименовой, ощущение «личной причастности» и к революции 1917 г., и к революции 1789 г. [1224]. Вперед выходило поколение отечественных исследователей, которым это ощущение было сторонним [1225]. Написал я эту фразу 10 лет тому назад и поставил точку. Поспешил!
Последние годы жизни Адо с большой теплотой и пронзительностью описаны Дмитрием Юрьевичем Бовыкиным. Мои наблюдения (а мы контактировали в этот период с А.В. довольно интенсивно) в чем-то дополняют, в чем-то корректируют проделанный им анализ. Катастрофически осложнявшийся быт, это точно, буквально «заедал» жизнь. Начиналось задолго до финала. Увидел Адо как-то на мне новый костюм: «– Александр Владимирович, очень мне нравится, как Вы одеваетесь. – Анатолий Васильевич, в чем дело? Возьмите жену и идите в магазин». Адо только развел руками. И это был человек, который на заре нашего знакомства поразил меня своим стильным видом!
Женолюб и любимец женщин, он оказался в конце жизни обойденным женской заботой. Более того, перенесший несколько инфарктов профессор, занятый большой университетской работой, взвалил на свои плечи всю тяжесть семейных забот, все более осложнявшихся – болезнью жены, разладом в семье сына, отъездом за границу снохи, оставившей малолетнего внука на попечение деда. А Анатолий Васильевич очень любил внука, с трепетной нежностью он произносил само имя – Ванечка. И был очень ответственным дедушкой.
Когда в моей семье родился второй ребенок (1984), поздравив, он спросил: «Как Вы решились?». Я ответил, что решение было за женой, поскольку бремя забот ложится в основном на нее. Адо возразил: «Ну что Вы? Это же такая ответственность для мужчины».
Вообще Адо был чрезвычайно ответственным человеком. Переживал за состояние дел на факультете, за поручения (даже чисто формальные), за состояние науки, за учеников. Le noblesse oblige просто было разлито в его крови. Не дворянской – это верно, но очень благородной. Не участвуя в академических «играх», стоивших жизни многим, включая столь близких ему Поршнева и Манфреда, он между тем высоко ценил свой профессорский статус. Вышел как-то А.В., провожая меня, на лестничную площадку и, указав на дверь своей квартиры, молвил: «Вот здесь раньше была бы надпись “профессор Императорского Московского университета”».
И тяжело переживал деградацию этого статуса в 90-х. Адо не склонен был жаловаться, но иногда его, что называется, прорывало. Профессорское жалование, подобно всем зарплатам научной сферы, не росло, зато галопировали цены. «Не могу я это видеть, – в сердцах восклицал Адо. – Приходишь в магазин, а там новые ценники».
Существовала и элементарная проблема «достать». Моя внучка Яна была почти ровесницей Ванечки Адо. Первоочередной задачей было молоко. Дед-свояк приходил к молочному магазину в 6 утра и занимал очередь. К открытию (8 ч.) подтягивались основные силы. Вчетвером мы врывались в магазин и получали 8 пакетов (по два на нос) молока. А.В., как я понимаю, приходилось решать эту задачу одному.
Кроме тяжести быта, угнетала неопределенность, тревога за перспективы реформ, судьбу страны. В коммунистах Адо, прав Бовыкин, разочаровался окончательно после августовского путча 1991 г. Опасной виделась и угроза справа. А.В. с омерзением, другое слово трудно подобрать, воспринимал активизацию националистов. «Заглянешь в их газеты, – говорил он мне, – и чувствуешь себя каким-то гадким, противным самому себе. Будто тебя в чем-то вымазали».
Бовыкин пишет, что Перестройка и особенно постсоветский период оказались для Адо «временем наиболее активной переоценки ценностей». Могу сказать, что у этого процесса был и международный контекст. Сошлюсь на впечатления от поездки в Лейпциг в октябре 1989 г. на 80-летие Вальтера Маркова. Первым был вопрос: «А почему не приехал Адо?». А.В. Чудинов напомнил о том, как располагал А.В. к себе французов, то же было с немцами. Профессор ведущего университета страны, автор исторического труда, название которого было на слуху, Адо еще располагал необыкновенной человеческой привлекательностью. Эта аура пересекала все границы, воздействуя на людей различных взглядов и интересов в жизни.
В Лейпциге, где он побывал несколькими годами раньше, Адо ждали по-разному. Не скрою, больше всех опечалился бывший центрфорвард нашей истфаковской (в ЛГУ) команды 1957–1958 гг., ражий детина, видимо склонный к Бахусу в хорошей компании. По-другому ждал академик Манфред Коссок, лидер историков-новистов ГДР. В городе, охваченном мощным народным движением, буквально сотрясавшим основы политической системы, он держался, по моему наблюдению, совершенно невозмутимо [1226].
На прощание он мне сказал, что ждет от Адо поддержки идеи международного фронта для противостояния враждебным идеологическим течениям в исторической науке и прежде всего для отпора «ревизионистской» историографии [1227]. Вероятно, нечто подобное и предчувствовал Адо, отказавшись от поездки в Лейпциг. Когда я доложил, что от него требуется, он только усмехнулся. Оба мы прекрасно ощущали абсолютную несвоевременность антиревизионистских «пактов» в условиях Перестройки.
Кстати, то самое народное движение, которое мне довелось видеть тогда в Лейпциге – «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» – совсем не напоминало «бунт бессмысленный и беспощадный», жакерии, описанные Тэном и проанализированные Адо. По контрасту с архетипической яростью толпы впечатлял мерный шаг десятков тысяч людей. Шагающие в неудержимом марше дисциплинированные колонны! Я не знаю вожаков, наверное, то были такие же militants, как при выступлениях парижских секций. Однако был своеобразный вдохновитель – лидер советской Перестройки. Время от времени из почти беззвучно маршировавших колонн раздавалось как выдох «Гохби». Народное движение апеллировало за санкцией к советскому руководителю.
Известный факт, что Адо подал заявку на книгу о Вандее в издательство «Мысль». Неизвестный, что дорогу ему перешел я. В издательстве сказали, что уже подписали договор со мной. По словам редактора, огорченный Анатолий Васильевич, имея в виду разработку крестьянских проблем революции, произнес: «Гордон не номер один, но номер два, точно». Узнав об этом, я очень пожалел, что помешал старшему товарищу. При всем моем тяготении к проблеме Вандеи, я был так занят своей крестьяноведческой монографией, что не рассчитывал осуществить заявку в обозримый срок.
Потом мы объяснились на эту тему, и я примерно представляю, что задумывалось Адо. Скорее всего предполагался образ «жакерии», подобной тем, что были описаны в его монографии (разумеется, с другим знаком).