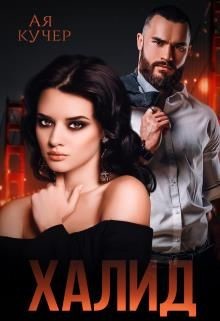6. Новые советские узбекские писатели
Слева направо: Гафур Гулям, Амала-ханым, Лутфулла Алими Йер юзи. 1929. 15 декабря. С. 5. Любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США
Яркий пример – Камчинбек (Абдулла Гайнуллин), чья звезда ненадолго вспыхнула в 1920-е годы [Каримов 2008: 294–295]. Среди тех, кто вернулся убежденным большевиком и суровым критиком своих старших собратьев, были «молодые коммунисты» У Ишанходжаев, Иногамов и, конечно же, Икрамов. Но учиться в Москве было необязательно. Хамид Алимджан родился и вырос в Джизаке, где окончил среднюю школу, а затем поступил в педагогический институт в Самарканде. После выпуска в 1929 году он начал преподавать и писать [Каримов 2008: 243]. Работал во многих газетах и журналах, был активным комсомольцем. Гайрати в 1917–1918 годах также учился в Намуне Мунаввара Кары, в 1919–1923 годах преподавал в средней школе, после чего отправился в Баку для повышения квалификации. В Ташкент вернулся в 1926 году, но уже в начале 1924 года начал появляться в туркестанской печати [833]. Гайрати стал самопровозглашенным певцом нового строя и высокомерным критиком старших коллег. Зиё Саид (1903–1938) посещал только советско-партийную школу в Ташкенте, но уже к 1927 году поднялся до поста редактора «Қизил Узбекистан». Помимо этого, он был плодовитым драматургом. С 1919 года состоял в партии и на протяжении ряда лет сотрудничал с ЧК (скорее всего, в Фергане во время Гражданской войны) [834]. Сотти Хусайн (1906–1942) приехал в Москву только в 1934–1935 годах, уже сделав себе имя как строгий комсомолец и суровый обличитель непролетарских течений в узбекской литературе. Он родился в Коканде, приехав в Ташкент, поступил в Среднеазиатский коммунистический университет. Из-за плохого знания русского языка попросился на «практическую работу» и, направленный в журнал «Ёш ленинчи» («Молодой ленинец»), организовал при нем литературный кружок (ил. 7), из которого вышли многие активисты [835]. Радикализм Хусайна дорого обошелся ему и в частной жизни. На его отца, владевшего лавкой в Коканде, навесили ярлык богатого галантерейщика (хотя сам он утверждал, что был всего лишь простым бакалейщиком) и лишили гражданских прав. Хусейн порвал отношения с отцом, а мать и младших братьев и сестер перевез к себе в Ташкент [836].

Ил. 7. Литературный кружок при «Ёш ленинчи»
Второй ряд, слева направо: Азам Аюб, Каюм Рамазан, Сотти Хусайн, Абдулла Авлони, Тирегулов, Алим Шарафиддинов, Гайрати. Самое примечательное на этой фотографии – присутствие на почетном месте выдающегося дореволюционного джадида Абдуллы Авлони, который после 1920 года преимущественно хранил молчание Йер юзи. 1928. № 10. С. 14. Любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США
Однако знамя советской власти в культуре у истоков «идеологического фронта» несли Маннан Рамиз и Бату. Рамиз занялся общественной деятельностью (сочетая, как многие, преподавание и журналистику) после революции. В 1920 году мы находим его во главе отдела народного образования Ташкентского старогородского совета, одновременно он активно участвовал в «Чиғатой гурунги». Заведуя отделом образования, в борьбе за вакуфные доходы Рамиз схлестнулся с улемами и в последующие годы, судя по всему, занял еще более радикальную позицию [837]. Он успешно продвигался по служебной лестнице, поднявшись до должности главного редактора ряда периодических изданий, включая «Туркистон» и «Қизил Узбекистон». В 1928 году Рамиз стал наркомом просвещения, главным редактором журнала по пропаганде латинского алфавита «Аланга» («Пламя») и журнала по распространению атеизма «Худосизлар» («Безбожник»), издаваемых ЦК КПУз. Бату был enfant terrible узбекской литературы. Его крайняя молодость и культурный радикализм шагали рука об руку. Бату являлся членом «Изчилар» (1918–1919) и «Чиғатой гурунги». Еще подростком издавался вместе с Фитратом и Чулпаном, принимал участие в дебатах о языке и культуре и ратовал за латинизацию в 1921 году, когда эта тема даже не поднималась в Туркестане. В том же году Бату уехал в Москву, где провел шесть лет, вернувшись в Узбекистан в 1927-м с дипломом экономиста и квалификацией партийного идеолога. Был назначен инструктором ЦК КПУз и начал недолгую карьеру в партии, поднявшись в начале 1929 года до наркома просвещения. В Москве пребывал в дружеских отношениях и с Фитратом, и с Чулпаном (который, по-видимому, помогал выбирать имя для сына Бату от его русской жены) [838], однако расходился с ними во взглядах. В 1925 году Бату публично порвал с Чулпаном, провозгласив:
Сен ўзга банда, мен ўзга бир куч
Фикринг, холдинг йўқликда кезман.
Нурларга қарши режанг, ишинг пуч
Ғоямнинг амри ғоянгни кесмак [839].
Ты раб самого себя, я – своя собственная сила.
Я посещаю твои мысли, твои мечты в небытии.
Ты замышляешь против света, дело твое пустое.
Мое дело велит бороться с твоим.
После этого направление его поэзии, как и взгляды на наследие старших собратьев, стало еще более радикальным. В конце 1928 года Вату писал, что джадидизм так и не вышел за пределы «литературы медресе», а после революции «продолжал напитывать умы школьников ядом родины и нации» [840].
Это был новый, совершенно чуждый Абдурахману Саади, с которого мы начали настоящую главу, критический язык, которому присущи несколько ключевых особенностей. Он приписывал классовую принадлежность любому автору, чьи работы считались явно выражающими интересы этого класса. Он заключал в себе безграничную надежду на силу интернационалистического советского проекта облагодетельствования Средней Азии, а также клеймил любые ссылки на особые обстоятельства как национализм (миллатчилик) и патриотизм (ватанпарастлик), считавшиеся необратимо пагубными проявлениями классово обусловленной (и антисоветской) идеологии. Позднее советские критики назвали бы это «вульгарным социологизмом», но в описываемое время данный язык был призван обличать национализм как однозначное зло, настолько самоочевидное, что его даже не требовалось риторически сочетать в критике с «великодержавным шовинизмом».
Действие этого нового языка отчетливо прослеживается в полемике вокруг фигуры Чулпана. Первый залп был произведен в феврале 1927 года молодым писателем Алимом Шарафиддиновым, одним из членов комсомольского литкружка при «Ёш ленин-чи». Признавая, что «сегодняшний узбекский литературный язык это, конечно же, язык Чулпана», Шарафиддинов тем не менее вопрошал: «Кто такой Чулпан? Чей он поэт?» Ответ был не из приятных: «Чулпан… поэт националистической, патриотической, пессимистической интеллигенции [миллатчи, ватанпараст бадбин зиёлиларнинг шоиридир]. Его идеология – это идеология их всех». Национализм Чулпана привел его к тому, что он считал всех русских колонизаторами и обвинял их, независимо от классовой принадлежности, во «всех бедах, постигших Узбекистан». Шарафиддинов сделал выводы, пожалуй, не слишком далекие от истины, а именно – что «Чулпан поддерживает революцию, однако не поддерживает русских, так как