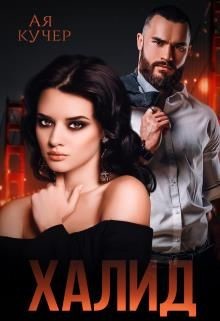отсылок к исламу и не давала «ни малейшего представления о низших классах населения». Как заключал автор рецензии (курсивом),
«Кадыри дал не исторический роман, не критику эпохи, а идеализированное описание растущего купечества» [852]. Шевердин также выражал удивление по поводу того, что узбекская пресса обошла это издание молчанием и отказала «молодому автору» в полезной для него критике. (Как бы компенсируя упущение своих сверстников, Сотти Хусайн, который был намного моложе Кадыри, принял вызов и разразился на страницах «Шарк хаки-кати», печатного органа Ташкентского обкома партии, залпом направленных против романа статей, раскритиковав «реакционную, романтическую, националистическую сущность» книги.)
Некоторые джадиды стремились добиться одобрения, упорно работая над советскими темами. Гази Юнус, в январе 1918 года выступивший против большевиков и летом того же года отправившийся в Османскую империю в поисках военной помощи, опубликовал в 1926–1927 годах дюжину пьес, предназначенных для политического просвещения, многие из которых были переведены с азербайджанского и татарского языков. Эльбек усердно трудился в сфере педагогики и создания учебников. Вместе с тремя русскими педагогами экспериментальной школы имени Карла Либкнехта он работал над подготовкой комплекта учебников для узбекских начальных школ. По своим размерам, структуре и техническому совершенству это были, безусловно, самые профессиональные из изданных на тот момент учебников для узбекских школ. Мунаввар Кары предпринял попытку к примирению. К 1927 году он оказался под колпаком ОГПУ, с которым начал вести переговоры. Его попросили дать письменные показания на антисоветских деятелей, «джадидов» и «националистов» Узбекистана. (Это тот самый текст, который сегодня имеет хождение в Узбекистане в качестве «воспоминаний» Мунаввара Кары.) Несомненно, те же цели преследовало его выступление на Ташкентской окружной конференции работников культуры в июне 1927 года, где он в своего рода соглашательской речи «признавал ошибки» и выражал готовность работать с партией. (Заголовок в газете «Қизил Узбекистан» так и провозглашал: «Отец джадидов Мунаввар Кары признает свои ошибки».) Мунаввар Кары утверждал, что в туркестанских условиях двадцатилетней давности любая борьба за современное образование (и против улемов) была «прогрессивна» по самой своей сути. Он также напомнил аудитории, несомненно, к ее ужасу, что многие из тех, кто теперь занимает ответственные посты в советских учреждениях, обучались в джадидских школах. Мунаввар Кары с готовностью признал превосходство партии: «За тридцать лет мы не смогли провести земельную реформу и избавить женщин от паранджи. Большевистская партия осуществила это за десять лет… Мы готовы поддержать революцию». Он заканчивал призывом: «Пускай один-два джадида провинились, [но] нехорошо мазать дегтем всех подряд». Однако всего этого оказалось недостаточно. Сотти Хусайн высмеял заявление Мунаввара Кары о том, что джадиды готовы присоединиться к революции, а Камильджан Алимов в своей заключительной речи облил Мунаввара Кары презрением за утверждение, что джадиды не были связаны ни с одним классом [853]. Мунаввар Кары больше никогда не появлялся на публике.
Но вопреки всей злобе, обрушенной новыми критиками на «патриотизм» и «национализм», нация не могла отказаться от мечтаний узбекской интеллигенции. В конце 1920-х годов увлечение нацией преодолело политические барьеры, разделявшие узбекскую интеллигенцию. Новые советские политические и культурные элиты могли сколько угодно выкрикивать лозунги об интернационализме и классовой борьбе, однако их смущало продолжающееся колониальное неравенство и разделение труда по этническому признаку. Как мы видели в нескольких предыдущих главах, революционный проект привлек представителей коренных народов в первую очередь обещанием ликвидации колониального неравенства. Однако по мере развития советской экономической политики в течение 1920-х годов стало совершенно ясно, что главная задача, которая отводится Средней Азии, – выращивание хлопка и обеспечение «хлопковой независимости» страны. Индустриализация региона была отложена на неопределенный срок, а на небольших промышленных предприятиях, которые уже существовали, преобладали европейцы. Вообще в 1920-е годы в Средней Азии наблюдался значительный приток европейцев, ищущих работу, как плановый, так и стихийный. И хотя радикальные критики трубили о необходимости пролетарской литературы на узбекском языке, узбекский пролетариат упорно не желал возникать. Все это вызывало у среднеазиатских интеллектуалов, и партийных, и беспартийных, большое недовольство, а ОГПУ трактовало его как контрреволюционный национализм. В общем, к 1928 году ОГПУ было обеспокоено ростом «панузбекизма» и «шовинизма» среди узбекской интеллигенции, вне зависимости от ее партийной принадлежности.
Нельзя говорить о повальном увлечении узбекской советской интеллигенции и членов партии идеей узбекскости. Усилия к тому, чтобы сделать Узбекистан узбекским, как отмечалось в восьмой главе, предпринимали и советская интеллигенция, и джадиды. Однако помимо этого дело нации требовало уравнивания с европейцами, экономического развития и индустриализации. Антиколониальная риторика партии породила надежды на своего рода деколонизацию. Но этого не произошло. Европейцы продолжали доминировать и в партии, и в современных секторах экономики (имевшейся промышленности, на транспорте, в добыче полезных ископаемых). Партия и сама страдала от хронических межнациональных конфликтов. Заявление «группы восемнадцати» в декабре 1925 года явилось следствием глубокого недовольства главенством европейцев в партии (см. главу 5). Недовольство это вскоре переросло в нечто более масштабное. Агентами ОГПУ был собран обширный архив высказываний советской интеллигенции, возмущавшейся тем, что новый строй не выполняет своих обещаний. Партийный комитет Кокандского техникума конфисковал номер институтского журнала со статьей о коренизации: «Коренизация – насмешка! Когда же железная дорога будет коренизирована? Когда же всюду будут надписи по-узбекски? Коренизированы на все 100 % пока что… только сторожа да конюхи» [854]. Было множество других примеров. В Самарканде учитель Каримов заявил: «Русские проводят шовинистическую политику. В Ташкенте все заводы укомплектованы русскими; если туда узбек попадает, его сразу увольняют» [855]. Санджар (бывший редактор «Муштума»), информируя ташкентские националистические круги о бунте заключенных басмачей в Ошской тюрьме, говорил: «Нигде в мире в заключенных в тюрьме бомб не бросали» [856]. Иногамов (партиец): «Ферганское дехканство в очень тяжелом положении, всюду командуют колонизаторы. В стране такое катастрофическое положение, что можно ожидать восстания. Линия ЦК в отношении интеллигенции неправильная, борьба с колонизаторством ведется нерешительно» [857].
В любом случае вина авторов этих утверждений заключалась в том, что они вообще их высказывали. Правда это или нет, не говоря уже о наличии иронии, ОГПУ не волновало.
Однако наиболее серьезной провинностью считались разговоры, в которых подвергался сомнению статус Узбекистана в советском государстве. Агенты ОГПУ начали передавать закулисные высказывания партийцев (и остальных) о том, что Узбекистан всего лишь поставщик хлопка, «красная колония», ничуть не лучше (а может, и хуже) Египта или Индии под британским владычеством. Многие представители «советской интеллигенции» Самарканда усматривали в арестах 1926 года «злополучную “колониальную” политику Соввласти… стремление ее в колонизаторских целях расколоть национальную интеллигенцию» [858].
Преподаватель ташкентской районной партийной школы Шо Расул Зуннун говорил учащимся, что