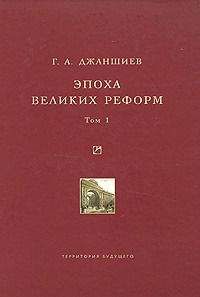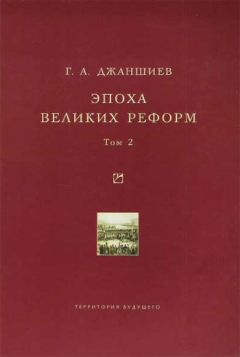388
Собственно план выкупа был предложен тверским депутатом Модестом Воробьевым (см. выше).
А. А. Головачев в дополнение к этим сведениям сообщил мне: «Действительно г. Воробьев предложил (см. с. 132) определить денежную повинность за четырехдесятинный надел крестьян в 9 р., отнеся на первую десятину большую сумму и понижая ее за вторую, третью и четвертую. Большинство Тверского комитета нашло, что такая мысль вполне соответствовала действительному значению земельных угодий в Тверской губернии, так как лучшие земли всегда окружают усадебную землю, с удалением же от усадьбы качество угодий понижается, а потому присоединились к этой мысли. Таким образом, повинности крестьян были определены всем составом Комитета – большинством и меньшинством. Затем, когда обсуждался вопрос о выкупе, тогда оставалось только капитализировать установленные Комитетом повинности. Но из этого вовсе не следует, что план выкупа предложен Воробьевым: он вотировал против капитализации, как и против выкупа, в принципе. Говоря о градации оброка, падающего на первую и последующие десятины, нельзя не заметить, что эта система, несмотря на всю справедливость ее по отношению к Тверской губернии и вообще к тем губерниям, где земли вовсе не удобряются, и в особенности тем, где крестьянские наделы или вовсе не соприкасаются с их усадьбами, или подходят к селениям узкой полосой. Различия этого некоторые члены Редакционных комиссий, как чиновники, не покидавшие департаментских канцелярий, вовсе не понимали, другие же не обратили на него внимания, а третьи, быть может, считали за лучшее вовсе не указывать на это различие. Как бы то ни было, но эта система не встретила возражения в среде Редакционных комиссий и была распространена на всю Россию. Она повела при ограниченности наделов в южных губерниях до 2-х десятин к несоразмерному возвышению выкупных платежей с доходностью земли. Если б первоначальная мысль Государя Императора (слова эти были нами записаны, представлены князю Долгорукову и напечатаны в Московских Ведомостях. Вот они: «Я уже сделал распоряжение, чтоб двое из ваших депутатов были приглашены в Главный комитет для общего рассмотрения и решения крестьянского вопроса), высказанная им Тверскому комитету, была исполнена, т. е. если б депутаты губернских комитетов были допущены к обсуждению проекта крестьянского положения в Главном комитете, то конечно, этого случиться бы не могло. Депутаты северных губерний не могли не указать той разницы, о которой я говорю, а также и на полное отсутствие какой-либо другой причины – допускать для черноземной полосы указанную градацию».
Намек на известную брошюру гр. В. П. Орлова-Давыдова: Lettre d’ ип depute du Comite a M-r le president de la Commission de redaction aide-de-camp genera Rostovtzeff. Paris, 1859.
См. h. с. Семенова. Т. II. C. 254. Сознание невозможности обезземелить крестьян к началу 1860 года сделалось почти аксиомою. Даже в консервативных дворянских кругах стали сознавать ее. «Еще можно было прежде, – говорилось в одном циркулярном обращении к депутатам второго призыва, – увлекаться подобными фантазиями: многие вовсе не знали, что такое русский крестьянин; многие думали, что его также легко пожаловать в бездомники, как эстонца или ливонца. Теперь тешить себя надеждою, что в России можно освободить крестьян без земли, непозволительно, скажу более – преступно». См. н. с. Иванюкова. С. 200.
В вышеупомянутом письме ко мне А. А. Головачев пишет: «Пророчество Тверского комитета, что подобная реформа не будет уничтожением крепостного права, а только передачей его из рук помещиков в руки чиновников, вполне подтвердилось. Позднейшие реформы, земская и судебная, не могли заполнить той пропасти, которая отделяла полноправную и безответственную бюрократию от бесправных, или, как выражался нам знаменитый сатирик, от обладавших якобы правами обывателей. На знамени этих реформ начертаны были громкие слова самоуправление и независимость суда', в действительности же не было ни того, ни другого, хотя и нельзя отрицать той пользы, которую они принесли с собою обществу. Что же касается земских учреждений, то круг их деятельности был значительно ограничен изъятием из ведения земства не только всех повинностей, упадавших на государственный земский сбор, но и значительная часть губернских перечислена была к государственным и также изъята из ведения земства. В ведении земских учреждений осталась из прежних земских повинностей только одна дорожная, отвод квартир для полиции и судебных следователей, да содержание лошадей для разъездов исправника и становых приставов. Что же касается других вновь возникавших потребностей земства, то в этом отношении земствам предоставлено было широкое право самообложения только одних земель, и то без права взыскания сборов, что возложено на полицию, вовсе не подчиненную земству и не обязанную исполнить его требований. Относительно же суда, независимость его осталась только кажущеюся: карьера судебного персонала осталась в руках администрации, а потому ни о какой независимости здесь не может быть и речи. Так как обе эти реформы имели чисто бюрократическое происхождение, то понятно, почему они не могли заполнить той пропасти, на которую указано выше: они были только легоньким мостиком над этой пропастью. С введением же нового земского Положения и многочисленных новелл к Судебным Уставам и эти мостики исчезают, а пророчество Тверского комитета осуществляется воочию. Но если бросить ретроспективный взгляд на истекшее тридцатипятилетие и хорошо взвесить все пожелания Тверского комитета, выраженные им в объяснительной Записке к проекту Положения, то невольно является вопрос: скольких бедствий могла бы избежать Россия, если б эти пожелания осуществились? Мысль об освобождении 20 миллионов человек от крепостной зависимости естественно связывается с мыслью о свободе вообще, о самостоятельности как отдельной личности, так и общества; одна от другой не может быть отделена никаким образом. Раз первая была поставлена на очередь самим правительством, естественно, что и другая возникла в умах людей и овладела всецело людьми наиболее способными и наиболее впечатлительными. Люди зрелых лет, умудренные опытом, сдерживали себя и удовлетворялись возможною деятельностью. Наступила реакция! реакция в самом обществе, в литературе. Россия отодвинулась назад на целые десять лет. Все затхлое, давно забытое, всплыло на поверхность и громко вопиет против всего прогрессивного движения прошедших десятилетий. Чему поклонялись тогда, то проклинают теперь. Чего не осмеливалась проповедывать покойная «Весть», то теперь с нахальством высказывает «Гражданин». Что же остается делать человеку на восьмом десятке лет? Не начинать же опять сначала! Да на это, пожалуй, ни сил, ни энергии не хватит. Остается опустить руки и отказаться от надежды на своем веку увидеть родину в лучшем положении. А, казалось, счастие было так близко, так возможно!!!»
У этих людей (противников радикальных реформ), писал Катков в 1860 г., всегда на языке незрелость общества, неразвитость народа, негодность породы и т. п. Они думают, что дело пойдет лучше, если давать лучшее устройство понемногу. К сожалению, они забывают, что всякая система может развиться и принесть пользу только тогда, когда взяты ее начала во всей их истине и полноте. Русс. Вест., 1860 г. № 2.
Извлечения из Обзора приведены выше в первой главе; тут приводятся соображения из Записки А. М. Унковского. Эта обширная записка, заключающая едкую и меткую характеристику нашего дореформенного строя, была представлена от имени тверского комитета депутатом А. М. Унковским в Редакц. комисс. Весьма интересное извлечение из нее приводится в н. с. Иванюкова, на с. 346–363 (опечатка 343). Записка целиком была напечатана за границею в № 9 Голосов из России, издававшихся Герценом и Огаревым.
Как известно, впоследствии, т. е. вскоре после «19 февраля», когда прозрели на время самые безнадежные слепцы, истина эта настолько стала для всех очевидною, что даже сам гр. Панин вотировал в 1862 г. (см. Дело о преобраз. суд. части. Т. XIX) в Государственном совете за суд присяжных, причем заявил, что действительно независимым может быть только суд присяжных.
Такие консерваторы, отстаивающие выгодные для них застарелые злоупотребления, по верному замечанию Д. А. Ровинского, стары, как мир (см. Русс, народ, картины. Т. V, 325, прим. 375).
Обезумевшим крепостникам примерещились и не такие ужасы. Один из них писал: «Вместе с дарованием крестьянам вольности Государь подпишет многим и многим тысячам помещиков смертный приговор. Миллион войска не удержит народ от неистовств» (Русс. Стар., 1897. XI, 238). «Над нами, – писал другой, – топор висит на волоске и скоро упадет на наши шеи, а именно через освобождение крестьян». (Там же). По поводу этих трусливых причитаний крепостников пишет другой помещик-либерал: «Теперь не знаю, чему удивляться: или этой закоренелой дикой привязанности к устарелой рутине, или тому спокойствию и законному терпению крестьян, с которым они ожидают свою эмансипацию; все они об этом знают, в народе носятся нелепые толки, но он молчит, работает по-прежнему, ждет царского слова и исполнения его посредством законных властей» (350, там же).