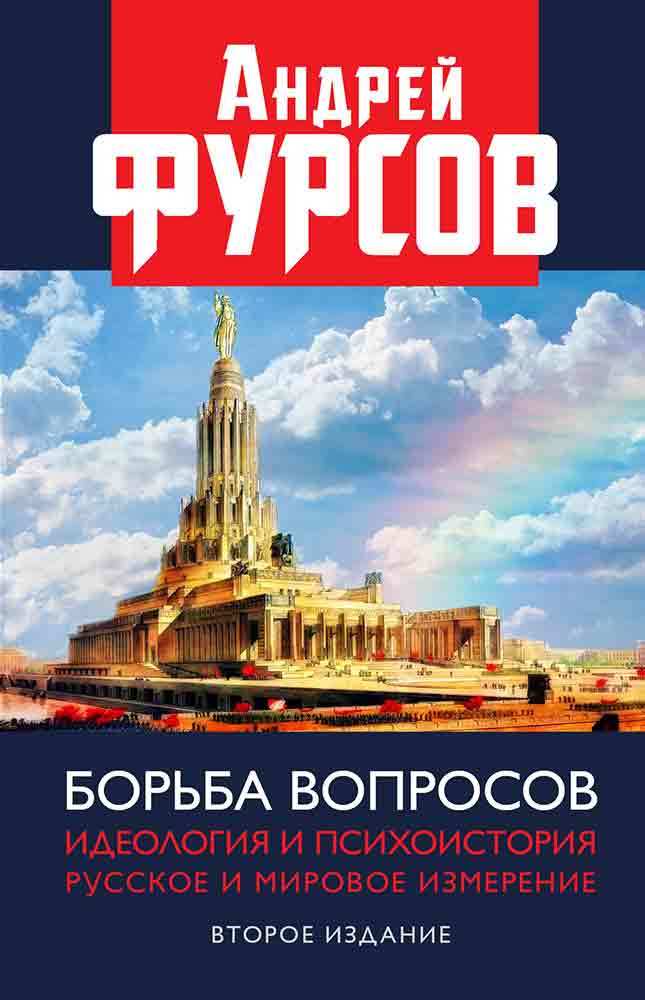тем более в СССР «либерализм» (как и почти всё «идеальное» в русской жизни) носил не столько «номиналистический», сколько «реалистический» характер и имел отношение в большей степени, с одной стороны, к организации повседневной жизни, с другой – к определению типа распределения общественного продукта. Речь идет о соотношении роли и доли центроверха – «государства» – и различных социальных групп.
У совинтеллигенции немало отличий от русской интеллигенции. Если эта последняя была обращена прежде всего к народу, апеллировала к нему и только во вторую очередь – к власти, то совинтеллигенция была практически полностью развернута в сторону власти, стремясь к одновременной реализации трудно совместимых задач: быть наставником этой власти, эдаким «учительным старцем» при ней или хотя бы частью ее и в то же время иметь облик гонимых властью, жертвы. В любом случае совинтеллигенция не любя/ненавидя власть, боясь ее, тянулась к ней (Hafiliebe), определяла себя через нее, причем не только негативно, но и позитивно (еще одно отличие от русской интеллигенции), была настроена на сотрудничество с властью. Однако пока власть была в силе – до Горбачева – из этого ничего не выходило. Это уже потом, при Горби, «когда начальство ушло», во власть хлынули бобчинские и добчинские от совинтеллигенции. До – ни-ни.
Вот что пишет по этому поводу А.С. Кустарев: «Вообще, сотрудничество философов и боссов в России совершенно не удалось. Можно думать, что в последний момент между ними обнаруживались все-таки идейные расхождения. Но отнюдь не исключено, что идеи тут были ни при чем. Просто в России боссы считали себя философами и боялись, что философы хотят стать боссами, в чем, видимо, была изрядная доля правды». Превращение «философов» (младших научных сотрудников, лаборантов, обозревателей из коммунистических СМИ и прочих) в боссов в конце 1980-х годов обернулось катастрофой. А.С. Кустарев метко характеризует гласность как первую приватизацию – в сфере культуры (я бы сказал – в идеологии), за чем последовала приватизация в материальной сфере, так сказать от духа к материи, от надстройки к базису (в этом плане очень показательны фигуры Чубайса и Гайдара).
Так же как и в случае с русской интеллигенцией, когда я говорю о совинтеллигенции, то имею в виду не всех занятых умственным трудом, а тех, «идейно-политическая» деятельность которых доминирует над профессиональной, над тем, что связано с «полезной профессией». Иными словами, речь идет об интеллектуальной обслуге власти или, если кому-то это покажется слишком уничижительным, об «идеологическо-научно-пропагандистском» сегменте; сюда же необходимо включить тех, кого в советском обществе именовали «творческой интеллигенцией», т. е. работников искусства, театра, кино. Перед нами – определенный сегмент слоя работников интеллектуального и эмоционального труда, активное «меньшинство» (в том смысле, который вкладывал в этот термин Бурдье) – рефлексирующее на непрофессиональные темы, пишущее, имеющее доступ к источникам информации (включая западные и полузакрытые «местные»), в какой-то степени формирующее общественное мнение и в то же время претендующее, как минимум, на то, чтобы говорить (прежде всего, с властью), причём не столько от имени слоя в целом и даже не от имени народа и общества в целом, а чуть ли не от имени Вечности, Абсолюта. Плюс претендующее определять, кто к интеллигенции относится, а кто нет. При этом, повторю, критерии носят не социальный, а «идеологический» характер: если либерал или левый (и то не всякий) – интеллигент, а если патриот – нет.
XI
А.С. Кустарев верно зафиксировал миф совинтел-лигенции о ее уникальности как один из центральных в ее ложном (и, добавлю я, компенсаторном) сознании. Однако этот миф характерен и для русской интеллигенции. В то же время есть, по крайней мере, два (или даже два с половиной) мифа, которые принадлежат исключительно совинтеллигенции, созданы ею и решают ее проблемы.
Первый миф – о происхождении слоя. Совинтеллигенция, как теперь выражаются, позиционировала себя в качестве наследницы по прямой русской интеллигенции, выводила себя из нее, настаивала на генетической связи. Что, разумеется, не соответствует действительности, и ситуацию не меняет тот факт, что немало представителей русской интеллигенции вошли в состав совинтеллигенции – целое определяет элемент, а не наоборот. Я уже не говорю о том, что совинтеллигенция сыграла значительную роль в вытеснении/устранении/уничтожении не только самой себя в 1930-е годы, но и русской интеллигенции, активно помогая в этом большевистскому режиму, особенно в 1920-е годы.
Миф совинтеллигенции, о котором идет речь, служил важным средством самоопределения и легитимизации. Но он же подрывал последнюю, поскольку легитимность совинтеллигенции базировалась на двух мифах, причем один исключал другой. Этот другой миф-представление совинтеллигенции о себе как об элементе, причем очень важном, советской власти, которая и уничтожила старую Россию вместе с русской интеллигенцией, последнюю – частично физически и полностью – социокультурно. Один миф опровергал и исключал другой в качестве опоры, тем не менее, в коллективном сознании и бессознательном совинтеллигенции уживались оба, что свидетельствует о расколотом (социокультурная шизофрения?) сознании целого слоя, и именно эта спасительная расколотость позволяла примирять непримиримое.
Если миф о сопричастности власти решал проблему социального статуса (а статусные претензии совинтеллигенции были похлеще, на порядок больше, чем таковые русской интеллигенции – все та же компенсаторика, отсюда почти одержимость совинтеллигенции властью, со всей остротой проявившаяся у «шестидесятников» и в патологически-фарсовой форме – у диссидентов), то миф о связи с русской интеллигенции, о преемственности, а не о разрыве с ней, решал задачу обеспечения престижа в сфере культуры, социокультурного статуса, превращая совинтеллигенцию в сотворцов русской культуры. Устанавливая такую связь, совинтеллигенция полностью принимала и разделяла претензию русской интеллигенции на роль главного творца русской культуры, что, конечно же, не соответствует действительности и является мифом, порожденным русской интеллигенцией, ее ложным сознанием.
Высокая русская культура была дворянской – аристократической и народной одновременно. Не идеализируя ни одну, ни другую, мы должны это признать. Эта культура была создана дворянами в XVIII – первой половине XIX в. и приобрела свой если не окончательный, то в целом завершенный вид именно к середине XIX в. – до того, как интеллигенция вышла на сцену русской истории и захватила ее. Рубеж, зафиксировавший победу России интеллигентской над Россией дворянской, а точнее поражение последней, – отрезок между 31 марта 1878 г., когда суд присяжных оправдал Засулич, покушавшуюся на Трепова, и 1 марта 1881 г., когда был убит Александр II, независимо от того, кто направлял убийц; после этого власть и дворянская Россия могли, пусть и переходя порой в атаку, вести только арьергардные бои. Ну а интеллигенция после 1881 г. устремилась к революции, к смерти самодержавия (1917 г.), царя (1918 г.) и к собственной социальной смерти – так сказать, хроника объявленной смерти.
Более того, и во второй половине