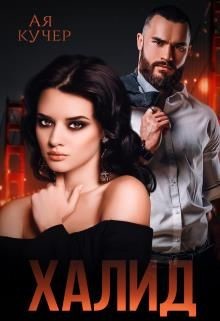испытывая нехватку средств, решило добыть строительные материалы, снеся «неиспользуемые» здания комплекса медресе Диванабай. Местные власти дали разрешение, но по ходу дела масштабы работ расширялись, и ко времени окончания сноса перестали существовать 43 жилые комнаты
(ҳужралар), мактаб, мечеть и многое другое [Keller 2001: 142–145]. Власти одобрили заявку и, сославшись на санитарные нормы, объявили здания непригодными для использования, но проект был инициирован в первую очередь вакуфным управлением. К 1927 году вакуфное управление из попечителя медресе превратилась в учреждение, паразитирующее на них. Нескольким медресе удалось продержаться в течение 1927/28 учебного года, выполняя санитарные требования, предъявляемые к ним советскими властями, но к концу 1928 года и они были закрыты. В Андижане это произошло 28 октября 1928 года, когда комиссия окружного отдела образования в сопровождении врача обошла город и нашла, что все медресе и кориханы нарушают санитарные нормы [869]. В Самарканде к тому времени медресе уже не осталось [870]. Закрытие медресе означало конец долгой традиции исламского образования в Средней Азии и института, который на протяжении веков обеспечивал определенное понимание ислама в регионе и за его пределами.
Внезапная смена позиции партии по мактабам – от реформы к упразднению – была связана с изменением ее линии в отношении среднеазиатского ислама в целом. Ранее советские власти были готовы сотрудничать с «прогрессивными» улемами и мусульманами-реформистами, которых они считали партнерами в деле просвещения. Пик этого оптимизма пришелся на август 1924 года, когда заместитель начальника ОГПУ по Средней Азии М. Д. Берман даже предложил создать в будущей Узбекской Республике центральное духовное управление (махкама-и шаръия), которое контролировало бы все религиозные вакуфы, при условии что заведовать им будут «прогрессивные» улемы. Последние не могли соперничать по авторитетности со своими соперниками, считал Берман, и потому не имели иного выбора, кроме как поддерживать советскую власть. «Прогрессивно-лояльное духовенство» являлось той силой, которая «при нашем негласном руководстве и поддержке начнет борьбу с религиозным фанатизмом и бытовыми предрассудками… и будет активно содействовать разложению духовенства». Духовные управления должны были «очистить религию ислама от извращений консерваторов и в этом случае – решительное отрицание ишанизма [суфизма], о котором в Коране ничего не известно» [871]. В 1924 году ОГПУ еще могло защищать приверженность «прогрессивных улемов» Священному Писанию, но к 1927 году это уже осталось в прошлом. В предыдущем году ОГПУ уверилось, что по всему СССР набирает силу организованное «мусульманское религиозное движение», выступающее против советской власти. Организация татарским Центральным духовным управлением съезда улемов в Уфе в октябре 1926 года была воспринята как доказательство движения, охватывавшего советскую территорию и связанного с зарубежными контрреволюционными силами [Набиев 2002: 85; Арапов, Косач 2007]. Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) воспользовалась этой мнимой угрозой для усиления в СССР антиисламской партийной линии. Эта тревога наложила отпечаток на дискуссии в Средазбюро и УзЦИК, несмотря на то что между улемами Поволжья и Узбекистана было мало связей и условия в этих двух регионах заметно различались [872]. Глава Антирелигиозной комиссии Е. М. Ярославский лично посетил Узбекистан и в течение 1927 года участвовал в совещаниях, пока КПУз наращивала обороты «борьбы с духовенством».
В Узбекистане бремя подозрений легло на духовные управления. ОГПУ и партия опасались, что они слишком серьезно относятся к своей общественной роли и используют свой авторитет для посредничества между властями и мусульманским населением [873].
Нынешнее духовенство не то духовенство, которое было раньше, лет 5-10 назад, – заявлял ЦК КПУз в 1927 году, – это духовенство, понимая момент борьбы труда с капиталом, социализма с капитализмом, проживая в стране, где строится социализм, – всю свою тактику приспособляет к переживаемому моменту [874].
Теперь прогрессивные улемы сделались опаснее консервативных, поскольку разбирались в текущем моменте и были лучше организованы. Кроме того, их считали хитрецами, которые стремятся скрыть свое истинное лицо, высказывая реформистские взгляды. В результате партия разработала план подрыва их авторитета с применением различных тактик, гласных и негласных, как то: усиление надзора за школами и вакуфными доходами, обложение последних налогом, ограничение свободы действий духовных управлений, а также попытки использовать разногласия между улемами для создания раскола. ЦК КПУз счел желательным провести перевыборы в духовных управлениях крупных городов под лозунгом «чистки их от торгово-байских и консервативных элементов», чтобы сместить действующих руководителей, которых затем надлежало выслать из Узбекистана [875]. Кроме того, было постановлено изучить возможность полного упразднения управлений. Решения эти были быстро реализованы, и к концу года духовные управления действительно упразднили. Заодно с ними закрыли и суды кади. За последние несколько лет в результате различных мер их юрисдикция уже была ограничена, и количество кадийских судов резко сократилось, так что в 1927 году их оставалось всего семь [876]. В том же году решением УзЦИК они были полностью ликвидированы [877].
Кампания против исламских институтов сопровождалась усилением словесных нападок на улемов. Антиклерикализм, бытовавший на протяжении большей части десятилетия, теперь перерос в официальную атеистическую пропаганду. На мусульманских территориях начали создаваться отделения Союза воинствующих безбожников, и в ноябре 1928 года состоялся I Съезд безбожников Узбекистана [878]. Весной того же года начал выпускаться узбекский журнал «Худосизлар» («Безбожник»), печатавший многочисленные переводы с русского языка, которые ввели в узбекский язык первые теоретические аргументы в пользу атеизма. Фитрат утверждал свое неверие в рамках исламской традиции, но эта новая узбекоязычная литература ныне нашла себе пристанище в другом месте, в непосредственном противостоянии науки и религии, реальности и мифа, свободы и угнетения. Маннан Рамиз цитировал Энгельса, утверждая, что религия являлась продуктом первобытного этапа человеческого развития, когда люди, не понимая природу, приписывали всю ее деятельность сверхъестественным существам. Затем религия стала орудием в руках эксплуататорских классов, которые использовали ее для сохранения своей власти в обществе. Но, что еще хуже, религия «отравляет человеческий мозг, подчиняет воображение суевериям, сбивает с толку разум, наполняет его сверхъестественными представлениями и идеологиями, препятствующими борьбе за социализм» [Ромиз 1929: 19]. Кроме того, «ядовитой ложью» ислама была «политика, установленная Мухаммедом для защиты класса богатых [бойлар синифи] и использования труда бедных» [Алиуллин 1929], а все ближайшие сподвижники Мухаммеда являлись богатыми купцами и знатными людьми [879]. Безбожная литература предлагала научные доказательства нелепости или вредоносности исламских ритуалов, таких как пост, омовение и обрезание, и стремилась лишить исламский нарратив сакральности, предоставляя читателю беспощадный исторический отчет о происхождении и распространении религии. Некий Рашид Хан, например, взялся за критическое прочтение исламских источников, чтобы доказать, что написание и составление Корана – работа Мухаммеда, а не божественного вдохновения [880]. Новые литераторы