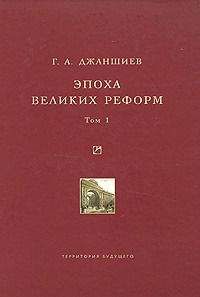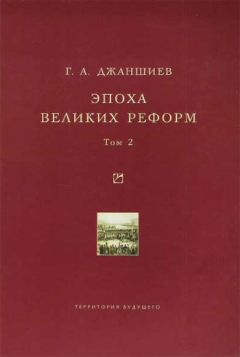424
См. н. сб. Ровинского. Т. V. С. 324.
Русская Мысль, 1886 г. № 9. С.80. Валуев в своей Думе Русского также указывает на презрение к личности гражданина, как на характеристическую черту старого порядка (Рус. Стар., 1891, V, 440). Никитенко замечает, что русская история «мучила, а не воспитывала» (II, 294).
См. объяснение под ст. 43 уст. о нак., нал. мир. суд.
Одна владимирская помещица, штабс-капитанша Зинаида Васильевна Архангельская, в отзыве своем судебному следователю, возбудившему дело о жестоком обращении ее с дворовою девушкою, 24 января 1858 г., протестуя против возбуждения дела «из-за такого вздора», излагала, бессознательно пародируя Аристотеля, в следующих выражениях крепостническую теорию о соотношении крепостного права к телесному наказанию: «Бог создал особо господ и слуг, которым и дал особую натуру, способную к перенесению тяжелых трудов в услужении господам, тогда как господа натуру имеют от Бога более нежную. К этому физическому различию между господами и холопами присоединено Богом нравственное различие между ними: способность повелевать и повиноваться. Законы гражданские, распределяя отношения между людьми, основываются на этом естественном различии господ и холопов, резко распределяя отношения между ними и в гражданском быту, поставив господ первыми в рядах гражданственности и во всех движениях света (sic) и освободив их от телесных наказаний, а последних, предоставляя им телесный труд, подвергает и наказанию телесному» (см. Колок., 1859). Чем это хуже современных словоизвержений Гражданина?
Пытка юридически была уничтожена указом 27 сентября 1801 г., «дабы самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было из памяти народной». Но на деле пытки существовали до самого конца крепостного права. Помещики пытали своих людей и девок, надевая им на шею железные рогатки, приковывая тяжелыми цепями к стене и засекая плетьми и розгами (см. н. с. Ровинского. Т. V).
Гуманные веяния 60-х гг. имели последствием не только отмену жестоких телесных наказаний, но и вообще смягчение всех наказаний. Приведу один пример, заимствуя его у Ровинского. По Уложению (изд. 1857 г.) порубка леса на самую незначительную сумму наказывалась лишением всех особенных прав и преимуществ и т. д. По положению же 19 февраля 1861 г. за порубки назначен штраф maximum до 5 руб. (см. Записку Ровинского в т. XVI, дела о преобразов. судебн. ч. в России).
Говоря о времени господства кнута, Ровинский пишет: не одних только ребят в школе били, господа подчивали свою крепостную прислугу березовою лапшой с ременным маслом, мужья били своих жен для детей, а детей били «для людей»; мастера били учеников, хозяева – рабочих; секли дворян, секли фрейлин, били придворных, и все это по правилу, что за битого двух небитых дают, так что при этом повальном битье в родном языке нашем выработалось особое свойство, по которому из каждого существительного боевой глагол можно сделать. – Уж я те отстоканю, – говорит половой мальчику, уронившему стакан. – Наегорьте-ка Антошке спину, – говорит артельный староста. – Ну-тка, припонтийстим-ка (от Понтийского Пилата!!) его, братцы, – кричит артель на Волге.
– В старину учить и бить значило одно и то же. Давно уже отменено телесное наказание, – говорит Ровинский, – а боевой глагол все еще остался и не скоро, должно быть, выведется. Нас тоже били, – говорит иной, – потому мы в люди вышли; какое без битья ученье, – без него ни от старого, ни от малого настоящего толку не добьешься. Ну, как не проучить рассеянного ученика, не задать ему хорошей встрепки, головомойки или подзатыльника, не вспрыснуть ленивого, не отхлестать или не отстегать за испорченную вещь; воришке надо выколотить охоту воровать уже более действительными мерами: высечь, отпороть-отодрать; – в военном быту и крепостном за такую провинность «шкуру с ног до головы сдирали». В домашнем быту тоже долго разговаривать нечего, за дело так и поучить надо: за святые волосы, да за бороду, за виски, да в ухо, да в ус, да в рыло, да бока пощупать. Ну, а незваного гостя как тычком не выпроводить, как не накласть ему киселю, да не накостылять шею; и на Западе такого человека выгонят, а по-нашему, по-русски: если уж гнать, так его в три шеи. В духовном ведомстве, кроме общеупотребительных боевых терминов, есть еще свои специальные: благословить, вздрючить, пришпандорить и взъефантулить. (См. н. с. Ровинского, V, 57, 58). В бурсе встречались еще выражения: взбутетенить, взъерепенить, застребушить.
В т. VI н. с. Ровинского (с. 335, 336) приводятся старинные верши из букварей XVII «Похвала розог», начинающиеся так:
Розгою Дух Святый детище бити велит:
Розгою убо мало здравию вредит.
Там же приводятся любопытные стихи известного вора Ваньки Каина о том, как его беспрестанно пороли в школе (337).
У Достоевского она описана с такими ужасающими подробностями, что нельзя читать без содрогания. См. с. 172 «Записок из мертвого дома».
Академик Никитенко в Дневнике своем отмечает: «Печальное зрелище представляет современное общество: в нем нет ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни чести (1841). 1812 год не оставил никаких следов в народном духе… страшный гнет, безмолвное раболепство… вот что пожала Россия на этой кровавой ниве».
Такие поразительно тонкие аматеры розог встречались, страшно вымолвить! и среди воспитателей юношества.
До каких чудовищных размеров доходила «порка» в учебных заведениях еще в конце 50-х гг., когда дореформенная рутинная ортодоксальная педагогика руководилась девизом:
Розги – ветви с древа знанья!
Наказанья – идеал!
В силу предков завещанья,
Родовой наш капитал —
можно видеть из Воспоминаний Самчевского, напечатанных в мае 1894 г. ъ Киевской Старине.
В числе педагогов, отмеченных Самчевским, есть некто Китченко (по-видимому, тронутый маньяк, вроде Жеребятникова), бывший в 50-х гг. сперва инспектором Черниговской, а потом директором Житомирской гимназии.
«Во время его инспекторства, – сообщает Самчевский, – стоял стон и раздавались вопли во всех трех ученических помещениях: в здании гимназии, пансионе и общей квартире. Ежедневно являлся Китченко в 8 часов утра в пансион при гимназии и здесь выслушивал доклад воспитателей об учениках, которые подлежали, по их мнению, наказанию. Зная любовь Китченко к истязаниям детей, воспитатели не скупились и указывали (беру minimum) не менее двух учеников на отделение, которых было 8, так как первые 4 класса имели по два отделения. Эти несчастные тотчас Китченком отзывались «вниз к Мине». Мина был сторож при карцерах, любимец Китченко “по хлесткости ударов”; на обязанности его лежало иметь всегда огромный запас розог. Осмотрев пансион, Китченко спускался вниз к Мине и здесь производилась жестокая экзекуция. Затем отбирались уже в самой гимназии ученики с плохими отметками и тоже посылались на экзекуцию».
«Вопль и плач детей оглашал все здание гимназии. Без всякого преувеличения можно определить, сколько ежедневно учеников Китченко подвергал телесному наказанию: в 8 отделениях было по 4 урока; предположим, что только один ученик в отделении получил единицу, итого 32 ученика ежедневно наказывались розгами. Насладившись истязанием детей в гимназии, Китченко отправлялся в общую ученическую квартиру; здесь повторялась та же история, что в 8 часов утра в пансионе. Таких учеников общая квартира поставляла Китченку столько же, сколько и пансион – не менее 8 учеников. Каждый день Китченко подвергал истязаниям не менее 50 учеников, многие наказывались в день по два раза: ранее разрисованные узоры не останавливали Китченка, – он на эти узоры наводил новые краски.
«Когда Пирогов, будучи попечителем Юго-Западного округа, потребовал в 1858-59 гг. сведений от гимназии о числе наказанных розгами учеников, то, как сообщалось в отчете, напечатанном в журнале «Мин. Народн. Проев.», оказалось, что в каждой гимназии наказанные считались десятками, а в Житомирской, где директорствовал Китченко, число сеченых перевесило многие сотни (более боо). Эта цифра в то время поразила всех; но, зная Китченка, можно с уверенностью сказать, что он умышленно утаил в отчете многие сотни, если не тысячи. Сечение учеников для Китченка было истинным наслаждением; это его единственный труд на педагогическом поприще. Кроме сечения Китченко ровно ничего не делал. Надо было только видеть, с каким плотоядным выражением на лице разговаривал Китченко с новичком, только что поступившим в гимназию. Редко эти бедняжки и неделю проживали, не побывши в лапах Китченка и Мины. Однажды поступил в общую квартиру ученик 2-го класса Джогин, лет 12, розовый, кругленький и красивый мальчик – кровь с молоком и отлично выдержанный. Китченко придрался к нему уже на третий день поступления и так высек, что, когда наказанный явился обратно, лица на нем не было; несколько дней мальчик плакал с утра до вечера, ночи не спал из страха. «Если мама узнает, она непременно умрет», – говорил товарищам Джогин. Все успокаивали его, принимая участие в его горе. После этого случая Китченко так привязался к Джогину, так сек его за всякую мелочь, что к концу первого года от Джогина осталась только тень, – полнота и розовый цвет лица были съедены Китченком. Когда в начале июня приехала мать Джогина и увидела в общей зале бледного, замученного своего сына, с нею сделался обморок, она-так рыдала, глядя на него, что все ученики прослезились. Это была такая сцена,