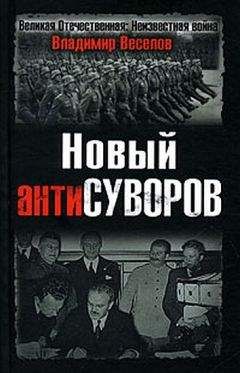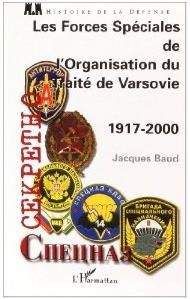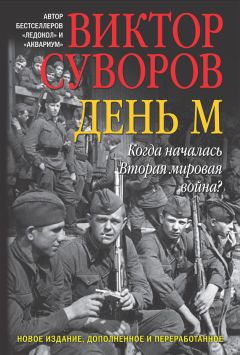Я молчал и по этому поводу. Лишь тогда, когда от недели к неделе я все сильнее стал ощущать, что Советская Россия уже видит тот час, когда она выступит против нас, когда неожиданно в Восточной Пруссии собрались 22 советские дивизии, в то время как наших там было от силы три, когда я постепенно стал получать информацию о том, что нанашей границе возникает аэродром за аэродромом, когда через всю гигантскую Советскую империю сюда начала катиться дивизия за дивизией, вот тогда я почувствовал себя обязанным принять меры со своей стороны.
Потому, что история не признает извинений за недосмотр, извинений, которые состоят в том, что задним числом объясняют: я это не заметил, или я в это не поверил. Стоя во главе Немецкой империи, я чувствую себя ответственным за весь немецкий народ, за его существование, за его настоящее и, насколько это возможно, за его будущее.
Поэтому я был вынужден принять защитные меры. Они были чисто оборонительного характера. Все же в августе и сентябре прошлого года нам пришлось сознаться в том, что мы не можем вести на западе войну с Англией, в которой прежде всего была бы задействована вся немецкая военная авиация, потому что за нашей спиной стояло государство, с каждым днем все более готовое к тому, чтобы напасть на нас в такой ситуации.
Но как далеко, однако, зашли эти приготовления, об этом в полной мере мы узнали только сейчас.
В тот момент я хотел еще раз прояснить ситуацию и поэтому пригласил Молотова в Берлин. Он поставил передо мной известные вам четыре условия.
Первое: Германия должна окончательно согласиться с тем, что Финляндия ликвидируется как государство, поскольку Советский Союз снова почувствовал угрозу с ее стороны. Мне не оставалось ничего, кроме как ответить отказом.
Второй вопрос касался Румынии. Он заключался в том, будут ли немецкие гарантии защищать Румынию также от Советского Союза. И здесь я должен был держаться данного мной когда-то слова. Я не жалею об этом, потому что в Румынии, в генерале Антонеску я нашел человека чести, который, со своей стороны, твердо придерживался данного слова.
Третий вопрос касался Болгарии. Молотов требовал права для Советского Союза разместить свои гарнизоны в Болгарии и таким образом гарантировать ей свою защиту. Что это значит, мы уже прекрасно поняли на примере Эстонии, Литвы и Латвии. Я мог в этом случае сослаться на то, что такая гарантия должна быть обусловлена желанием гарантируемого. Мне о таком желании не было ничего известно, я должен был сначала навести справки и обсудить это со своими союзниками.
Четвертый вопрос касался Дарданелл. Россия требовала разместить там опорные пункты. Если сейчас Молотов будет это отрицать, я не удивлюсь. Если завтра или послезавтра его не будет в Москве, вероятно, он тоже будет отрицать, что его там нет.
Однако он поставил эти условия, и я их отклонил. Я должен был их отклонить, и одновременно мне стало ясно, что пришло время величайшей осторожности.
С этого момента я стал тщательно наблюдать за Советской Россией. Каждая дивизия, обнаруженная нами, аккуратно регистрировалась, и в ответ на это принимались меры предосторожности. Уже в мае ситуация сгустилась так, что не осталось никаких сомнений по поводу того, что Россия собиралась при первой же возможности напасть на нас. К концу мая такие моменты участились настолько, что уже невозможно было отогнать от себя мысль об угрозе борьбы не на жизнь, а на смерть.
Я должен был тогда все время молчать, и сохранять это молчание было мне вдвойне тяжело. Не так тяжело по отношению к Родине, поскольку она, в конце концов, должна была понять, что есть моменты, когда нельзя говорить без того, чтобы не подвергнуть опасности целую нацию. Гораздо тяжелее давалось мне молчание по отношению к моим солдатам, которые, дивизия к дивизии, стояли на восточной границе империи, и, тем не менее, никто не знал, что затевается, никто не имел ни малейшего понятия о том, как изменилось положение в действительности и что им, возможно, придется выступить в тяжелый, даже в наитяжелейший военный поход всех времен. Именно из-за них мне приходилось молчать, потому что, пророни я хоть одно слово, это ни в коей мере не изменило бы решения Сталина, зато внезапность, которая осталась моим последним оружием, была бы потеряна. И любое такое заявление, любой намек стоил бы жизни сотен тысяч наших товарищей.
Поэтому я молчал даже в тот момент, когда окончательно принял для себя решение самому сделать первый шаг. Если я вижу, что мой противник вскинул ружье, я не буду ждать, пока он нажмет на курок, а лучше сделаю это первым. Это было, сейчас я могу об этом сказать, тяжелейшим решением всей моей жизни. Такой шаг открывает дверь, за которой таится неизвестность, и только потомки будут знать точно, как это началось и что произошло.
Можно только заручиться своей совестью, верой в свой народ и в созданную своими руками военную мощь и, наконец, — то, что я раньше часто говорил, — просить господа бога благословить того, кто хочет и готов свято и жертвенно бороться за свое существование.
Утром 22 июня началась эта величайшая в мировой истории битва. С тех пор прошло чуть больше трех с половиной месяцев, и я могу сегодня сделать следующее заключение:
С того момента все шло по плану!
Даже в том случае, если одиночному солдату или целой части приходилось столкнуться с неожиданностями, — все это время руководство ни на секунду не теряло контроль над ситуацией. Напротив, до сегодняшнего дня каждая акция протекала так же согласно плану, как когда-то на востоке против Польши, затем против Норвегии и, наконец, против Запада и на Балканах.
И вот что еще я должен заявить: мы не ошиблись ни в правильности наших планов, ни в исторически неповторимом мужестве немецких солдат, — наконец, мы не ошиблись и в качестве нашего оружия! Мы не были разочарованы функционированием всей организации нашего фронта и покорения огромных внутренних пространств, и мы не обманулись в нашей Родине.
Однако в чем-то мы обманулись: мы не имели ни малейшего понятия о том, насколько гигантской была подготовка противника к нападению на Германию и Европу, о том, как невероятно велика была опасность, о том, что в этот раз мы были на волосок от уничтожения не только Германии, но и всей Европы. Сегодня я могу об этом сказать!
Я впервые говорю об этом, потому что сегодня уже могу сказать, что противник сломлен и никогда больше не оправится!
Там была сколочена такая сила, направленная против Европы, о которой, к сожалению, большинство не имело никакого представления, а многие не догадываются и по сей день. Это было бы вторым нашествием монголов под руководством нового Чингисхана.
За то, что эта опасность отведена, мы благодарны прежде всего мужеству, выносливости и жертвенности наших немецких солдат и тех, кто пошел на жертвы, маршируя с нами. Потому что впервые на нашем континенте произошло что-то вроде пробуждения Европы.
На Севере борется Финляндия — настоящий народ-герой. Он зачастую остается в одиночестве на своих широких просторах, надеясь только на свою силу, на свое мужество, героизм и упорство.
На Юге борется Румыния. Невероятно быстро оправилась она под руководством храброго и решительного человека после тяжелейшего кризиса, который только мог поразить какую-либо страну и народ.
Между ними — огромное пространство театра военных действий, от Белого моря до Черного. И на этом пространстве сражаются наши немецкие солдаты, и в их рядах, с ними вместе итальянцы, финны, венгры, румыны, словаки. Уже подходят хорваты, выступают в поход испанцы. Бельгийцы, голландцы, датчане, норвежцы, даже французы либо уже собираются на фронт, либо скоро будут собираться.
Ход этих уникальных событий в основном уже вам известен.
В наступление пошли три немецкие группы войск. Одна должна была прорваться в центр. Цель одного из двух флангов была атаковать Ленинград, другого — оккупировать Украину. И в основном эти первые задачи были решены.
Если противники во время этих сокрушительных, невиданных в мировой истории битв часто говорили: «Почему ничего не происходит?» — на самом деле все время что-то происходило. Именно потому, что что-то происходило, мы и не могли говорить.
Если бы я сегодня должен был бы стать английским премьер-министром, я бы тоже при таких обстоятельствах постоянно что-нибудь говорил бы — потому, что там ничего не происходит. В этом и заключается разница! Мои соотечественники, я должен сегодня, здесь, перед всем немецким народом это сказать: часто было просто невозможно что-либо говорить — не потому, что не хотелось воздать по достоинству непрекращающимся громадным успехам наших солдат, а потому, что мы не имели права заранее оповещать противника о ситуациях, о которых он, благодаря убожеству своей разведывательной службы, узнавал иногда днями, а иногда неделями позже.