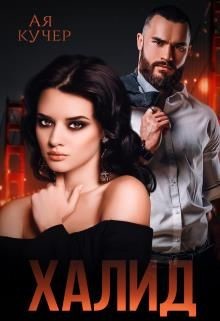обращавшейся к поэзии прошлого. Поражение чагатайства казалось полным.
И все же главные джадидские деятели – Фитрат, Чулпан, Кадыри, Эльбек – в 1929–1930 годах избежали ареста. В определенной степени это можно объяснить политическим покровительством, которое им оказывал Ф. Г. Ходжаев. Никаких документальных доказательств этого нет (возможно, предположения такого рода вообще нельзя доказать документально), однако Ходжаев защищал Фитрата еще в 1926 году, и вполне вероятно, что он имел некое отношение к тому, что самых крупных представителей узбекской литературы в этом раунде пощадили [980]. Однако их существование лишь терпели, и трескучие поношения в их адрес не затихали. Господствующей тональностью 1930-х годов была постоянная бурная благодарность партии и самому Сталину за дарованный Узбекистану дар культуры и освобождения.
Какую художественную литературу мы имели на узбекском языке до революции? – риторически вопрошал Икрамов в 1934 году. – Дореволюционная литература – это или придворная поэзия ханов и беков, восхвалявшая глаза и стан бачи, или произведения, носившие религиозный характер [981].
Все остальное пришло с революцией и было даром партии. Подобные воззрения сочетались с настойчивой критикой произведений, не укладывавшихся в пределы дозволенного. В этих условиях писатели были обязаны занимать идеологически правильные позиции, соревнуясь друг с другом, и осуждать тех, кто считался идеологически ущербным. В результате, как и везде в Советском Союзе, возникла культура неуверенности, при которой доносы стали способом доказать свою лояльность и сопричастность. Среди узбекской интеллигенции было и без того довольно поколенческих и политических конфликтов, но эта новая культура значительно повысила ставки.
После 1932 года вступление в Союз писателей стало для публикующихся авторов практически обязательным. Членство имело свои преимущества: выказывая готовность подчиняться советским порядкам, писатели могли надеяться на то, что их будут издавать или, по крайней мере, оставят в покое. Их тоже часто принуждали к публичным покаяниям. В антологии узбекской литературы, изданной на русском языке («для ознакомления широких трудящихся масс нашего Союза с советской литературой Узбекистана»), помещено короткое стихотворение Фитрата, восхваляющее хлопок (а что же еще?) [Фитрат 1934:125]. Если не считать этого, Фитрат оказался отлучен от прессы и полностью посвятил себя науке, в конце концов получив звание профессора в Институте языка и литературы в Ташкенте. Набирающий научный вес тюрколог из Ленинграда Н. Н. Поппе вспоминал, что благодаря Фитрату получил редкие рукописи из Средней Азии [Poppe 1983: 119, 266]. Фитрат даже издал научную работу на русском языке: его последняя публикация, появившаяся в 1937-м, в год его последнего ареста, представляла собой анализ и перевод на русский язык собрания кадийских документов XVI века [Фитрат, Сергеев 1937].
Чулпан также оставался под прицелом. Одним из последних произведений Алтая, опубликованных перед его арестом, была обличительная статья о Чулпане; поэт продолжал подвергаться нападкам как на узбекском, так и на русском языках [982]. В 1932 году, по-видимому, по совету Ф. Г. Ходжаева, он уехал из Ташкента в Москву, где был менее заметен. Работал переводчиком и даже женился на русской, возможно, чтобы опровергнуть свое реноме националиста [Қоршибоев 1990: 196; Каримов 1991: 32]. Чулпан прожил несколько относительно спокойных лет, в течение которых переводил на узбекский многочисленные произведения русской литературы, а также «Гамлета» (с русского языка). Кроме того, он сумел опубликовать роман и книгу, оказавшуюся его последним сборником стихов. Роман «Ночь» («Кеча») примечателен своей сентиментальностью, не имеющей ничего общего с господствовавшим тогда социалистическим реализмом. Однако передышка была недолгой. В 1936 году в прессе снова начались нападки на Чулпана, а заодно и на его редакторов и издателей, которых называли контрреволюционерами и врагами народа [983]. Когда в апреле 1937 года Чулпана заставили отвечать на выдвинутые против него обвинения на заседании Союза писателей, он по-прежнему держался дерзко и язвительно. «У меня много ошибок, но я исправлю их с вашей помощью. Но чему вы научили меня за эти годы?» Указывая на тот факт, что его последние работы появлялись без пояснительных предисловий, он спросил: «Здесь пришлось прибегнуть к нарушению, так как молодежи не следует позволять читать сочинения Чулпана без посредника… Почему работа этого националиста появилась без предисловия?» [Чўлпон 1993, 2: 189–194].
Кадыри повезло больше, чем Фитрату и Чулпану. После ареста в 1926 году он никогда больше не имел постоянной работы, но ему удавалось находить внештатную работу в качестве редактора и переводчика. В числе прочего в 1934 году Кадыри был составителем раздела на букву Р в первом крупном русско-узбекском словаре, перевел сборник антирелигиозных сочинений, в момент своего ареста работал над сценарием фильма по мотивам чеховского «Вишневого сада» [Қодирий 2005:247–248,276-279,316–318, 332]. И продолжал писать. В 1932 году его приняли в Союз писателей Узбекистана и через два года избрали одним из делегатов I Съезда всесоюзной организации. (Там, в компании Садриддина Айни, Кадыри познакомился с Максимом Горьким; фотография, где они сняты втроем, часто мелькала в более поздних советских изданиях, и мало что указывало на грозные тучи, сгустившиеся тогда над всеми тремя авторами.) Сын Кадыри рассказывает, что Ходжаев попросил его отца написать о жизни узбекских дехкан, как русские писатели писали о русских крестьянах. В течение двух лет (1932–1934) Кадыри ездил по узбекским кишлакам, собирая материал для повести о жизни села во время коллективизации, которая была издана под названием «Абид-Кетмень». Романы его издавались поразительно большими тиражами («Минувшие дни» – 10 000 экземпляров, «Скорпион из алтаря» – 7 000) и часто переиздавались, а Кадыри приобрел статус выдающегося (и самого любимого) узбекского писателя, который никогда не утрачивал [984]. Но весной 1937 года против него также началась очернительская кампания: А. Шарафиддинов и Дж. Шарифи (Шарипов) назвали повесть «Абид-Кетмень» антисоветской, а самого Кадыри – антиобщественным и аполитичным [Қодирий 2005: 324–330].
Разумеется, покровительство политических руководителей имело свои пределы, и они ничего не смогли поделать с общим настроем того периода, который был крайне враждебен по отношению к джадидам и их национализму и с помощью которого молодые авторы пытались подтвердить свои заслуги, критикуя старших коллег. Литературная критика этого десятилетия (или то, что за нее выдавалось) пестрит обличениями в буржуазном национализме, запятнавшем узбекскую литературу в 1920-е годы. Многие из критиков являлись молодыми маданиятчи. Зиё Саид питал особую неприязнь к Чулпану, а Хамид Алимджан и А. Шарафиддинов в эти годы сочинили немало критических обзоров «буржуазной узбекской литературы». Менее типичен случай Миёна Бузрука Салихова, который в 1930-е годы написал ряд язвительных критических статей о джадидской литературе. В них можно найти истории о современной узбекской литературе и театре, которые, предоставляя бесценную информацию из первых рук, в то