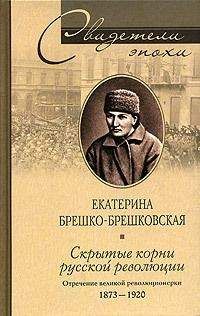Я подозвала юношу и сказала ему:
– Отнеси эту бумажку в телеграфную контору. Скажи им, что больная женщина очень просила это отправить. Заплати за телеграмму, а сдачу оставь себе.
Хитрый юнец взял послание, и больше я его никогда не видела.
На следующий день меня привели в большой амбар, где было полно чиновников в форме. Прокурор, которого о произошедшем уведомила брацлавская полиция, приехал со своими помощниками из Каменец-Подольска. Присутствовали и местные власти, а также несколько местных чиновников, которые, вероятно, не имели к этому делу отношения. Был тут и фотограф со своим аппаратом.
Меня начали допрашивать, однако я отказывалась отвечать. Настаивать не стали. Я сидела на стуле посреди помещения. Все прочие стояли чуть поодаль. Фотограф попросил разрешения сфотографировать меня. Когда он приготовился, я закрыла глаза и состроила рожу. Фотографироваться насильно меня не заставляли. Очевидно, местные бюрократы еще не приобрели опыта в делах такого рода. В первую очередь им было любопытно. Кроме того, либеральные традиции шестидесятых еще не до конца умерли. В то время с «политическими заключенными» обращались не так сурово, как позже.
Вскоре, ничего не добившись, чиновники ушли. Их сменило 12 женщин из народа, с которых взяли слово добросовестно обыскать меня с головы до ног. Они неуверенно приблизились ко мне. Их ужасно смущала торжественность дела и слухи о событиях, сопровождавших мой арест. Мне самой пришлось командовать ими. Процедура, к счастью для обеих сторон, закончилась быстро.
В ходе своей долгой жизни я еще не раз подвергалась обыску, а в первые месяцы заключения неизменно отказывалась фотографироваться. Благодаря этому мои друзья успели узнать о моем аресте и все продумать, прежде чем начались обыски и допросы. Если бы к ним пришел жандарм и неожиданно показал фотографию близкого друга, они бы наверняка смутились и не смогли бы принять необходимые меры предосторожности.
Глава 6
Брацлавская тюрьма, 1874 год
Меня вывели из тюрьмы и посадили в большой экипаж, окруженный несколькими полицейскими. Тройка отличных лошадей во весь опор помчала меня навстречу неизвестности. Я не имела ни малейшего представления о том, что меня ожидает.
Часа через три мы были в маленьком городке и подкатили к каменной стене с большими железными воротами. Это была Брацлавская тюрьма. Уже наступил вечер и стемнело. Очевидно, меня ждали. Собралось все начальство. После обычных формальностей меня провели по двору мимо центрального одноэтажного каменного здания к окружавшей двор стене. В этой стене находились камеры-одиночки и карцеры. Они были старыми, обветшалыми, грязными и темными. Я с конвоирами шла впереди, за мной следовали чиновники, а тюремщик уже ждал в коридоре с ключами.
Он открыл дверь карцера. Когда меня ввели в карцер, оттуда наружу бросилось двое хихикающих юнцов. Дверь закрылась, и я осталась одна во тьме. Я подошла к окошку в двери. Вдали виднелся тусклый свет, но его лучи не попадали ко мне. Я не осмеливалась шагнуть назад, так как чувствовала, что пол покрыт отбросами. Не было ни скамьи, ни каких-либо удобств. Пол был глинобитный, издававший запах сырости.
За дверью, на соломенном матрасе, лежал старый солдат в военной шинели, наброшенной на голое тело, и в опорках на ногах. Он спал, и его громкий храп разносился по коридору. Чуть погодя послышался писклявый голос:
– Дядя Нонкин, дядя Нонкин! Дай спичку, дядя Нонкин!
Голоса становились громче, и наконец старик проснулся и спросил, в чем дело. У него снова попросили спичку. Маленький, старый, полуголый дядя Нонкин встал и дал просителям спички. Я спросила его, что он здесь делает.
– Я караулю вас, – ответил он. – Я – николаевский солдат. Тюремщик нанял меня за два рубля в месяц стеречь вашу камеру день и ночь. Тюремщики очень заняты, а их только двое. Вот они и наняли меня.
Как только старик снова захрапел, озорные мальчишки опять закричали, требуя спичек. (Так они мучили старика все ночи подряд, пока сами не засыпали.)
Я стояла перед зарешеченным окошком камеры, размышляя о своем положении. Оно не казалось мне ужасным. В сущности, оно меня даже забавляло, но ни тогда, ни когда-либо впоследствии я так и не могла смириться с мыслью о долгом заключении. Я видела и смешную сторону ситуации, но сейчас меня занимали две главные проблемы: безопасность Стефановича и как вернуть себе свободу.
Так я и стояла, вспоминая свои испытания, когда неожиданно в отверстие просунулась рука со стаканом чаю на блюдце. «Совсем как в романе», – подумала я. Наклонившись, я выглянула в отверстие. В коридоре стоял хорошо одетый молодой человек. Он улыбнулся и передал мне чай. Я спросила его, кто он такой и зачем принес мне чай.
– Я тоже заключенный, – сказал он. – Меня приговорили к полутора годам тюрьмы за то, что я высек станового моего поместья. Я знаю всех в городе и прихожу в тюрьму только на ночь. Я сижу в камере для дворян. Она большая и светлая, и, кроме меня, там никого нет. Я получаю дворянский паек, но не ем его, поскольку обедаю в городе. Я подкупил тюремщика, и он закрывает глаза на мое поведение. Постараюсь помочь вам всем, чем возможно.
Поклонившись, он пошел прочь. Я выпила чай. Подняв глаза, я увидела, что в окошко всунута крохотная подушка в чистой наволочке. Я устала стоять и поэтому села на пол, прислонившись к двери и подложив подушку под голову, но через несколько минут вскочила на ноги. Меня покрывали насекомые; тело чесалось с головы до ног. Было невозможно ни заснуть, ни даже просто стоять. К утру в коридоре посветлело, и я смогла разглядеть стены камеры. Я увидела, что раньше здесь было окно, но его заложили кирпичами. Очевидно, заключенные пытались вытащить кирпичи, так как пол был усыпан их обломками и кучами мокрой вонючей глины.
– Почему меня держат в этой камере? – спросила я у тюремщика.
– Не знаю, – ответил он. Это был отставной солдат – хитрый, коварный, рыжеволосый негодяй и, как я узнала позже, гроза узников, особенно женщин.
«Ладно, – подумала я. – Поляк все расскажет».
Тот вскоре пришел, принес мне чай и объяснил, что меня держат в карцере незаконно, опасаясь, что я могу сбежать. Он сказал, что брацлавские власти высоко ценят свою неожиданную добычу и боятся, что могут остаться без награды.
– Я скажу им, чтобы перевели вас в светлую камеру. Там есть нары, вам нужно будет только попросить соломы. До свидания, мне нужно идти в город, на службу. Меня выпускают из тюрьмы, потому что я работаю. Я немного помогаю чиновникам, чтобы они оставили меня в покое. Тюремщик получает за это мзду… Вам принесут мой обед. До свидания.
«Совсем как в романе», – снова подумала я.
Принесли обед – пайку хлеба и тарелку прозрачной розоватой воды, в которой плавала маленькая белая палочка.
– Что это? – спросила я.
– Борщ, – ответили мне.
Я попробовала. Вода была чуть кисловатой, чуть подсоленной, а палочка оказалась кусочком свеклы. Я была рада, что на следующий день получу обед «для благородных», который состоял из двух блюд.
Время тянулось медленно. В камере было темно, стояла чудовищная вонь. Изобилие насекомых поражало воображение. Наутро третьего дня тюремщик перевел меня в соседнюю камеру. Это была маленькая, светлая камера-одиночка с двумя досками между печью и стеной, на которых можно было вытянуться в полный рост. Мне принесли мешок соломы. Я легла, чтобы ноги отдохнули, а затем попыталась стряхнуть с себя вшей, которые не давали мне покоя. В глубине души я смеялась над неприятностями и думала: «Нас этим не запугать! Мы знали, что нас ждет, что придется вынести. Наш долг – идти вперед, а ваш – мучить нас».
Мучения казались столь незначительными по сравнению с нашими возвышенными чувствами и свежей энергией молодости. «Хорошо, что меня с самого начала познакомили с тюремной жизнью во всей ее неприглядности. Кто знает, что ждет меня в будущем? В будущем? Как будто я долго пробуду у них в руках! Как будто я не сбегу при первой возможности! Еще столько предстоит совершить! Мы сделали лишь первый шаг. Остаться в их власти? Никогда! Я должна бежать».
С первых же дней тюрьмы и в течение всех лет моего долгого заключения не прошло ни дня, когда бы я не строила планов бегства, когда бы моя душа не стремилась на свободу, чтобы я могла продолжить борьбу за права народа.
На прогулки меня выводил дядя Нонкин. Маленький дворик, окружавший центральное здание, вдоль моей стены был пуст, но поодаль я видела женщин с детьми. Однажды за мной вдогонку бросился маленький цыганенок, подпрыгивая как козлик и протягивая руки с беспрестанным криком: «Дай, дай!» У меня для него не было ни гроша. Вся прогулка оказалась испорчена. Я остановилась, показала ему пустые ладони и попыталась объяснить, но он, не обращая внимания на мои слова, продолжал кричать: «Дай, дай, дай!» На следующий день я принесла ему несколько лошадок, вылепленных из хлеба, надеясь, что этого ему будет довольно. Но я ошибалась. Цыганенок взял лошадок, но продолжал клянчить.