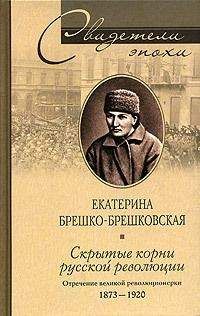– Зачем он это сделал?
– От избытка рвения, – отвечала я со смехом.
Глава 7
Киевская тюрьма, 1874 год
Однажды утром я услышала во дворе крики и суматоху. Спрыгнув с нар, я выглянула в окно и увидела поднимающееся над тюрьмой густое облако пыли. Вокруг бегали люди, крича и жестикулируя.
– Дядя Нонкин, – спросила я, – что случилось?
– Крыша упала и кого-то задавила, – ответил он. – Потому-то они все и кричат. Говорят, двоих убило.
Заключенные бегали туда-сюда, возбужденно пересказывая новости тем из нас, кто был заперт в камерах. Мне они кричали:
– Крыша провалилась! Мы спали, и нас едва не задавило. Двое не шевелятся. Ну, теперь-то нас здесь не оставят, а переведут куда-нибудь.
Крики и шум были неописуемыми. Облако пыли висело над тюрьмой весь день. Я ждала поляка, чтобы он рассказал мне, что же на самом деле произошло. Он почти всегда был при начальстве и знал его планы и намерения. Он рассказал:
– Всего лишь рухнула крыша. Тюрьмы здесь старые, построены еще польскими властями. Их никогда не чинили, а ради тепла крышу много раз покрывали дерном. Гнилые стропила, наконец, не выдержали. Никто не погиб, но многих сильно ушибло. Двое искалечены. Всех заключенных переведут в Гайсинскую тюрьму.
Я подумала: «Меня тоже переведут. Может быть, тогда получится».
Тюрьма бурлила; все ждали перемен.
– Нас наверняка переведут, – говорили заключенные. – Давить людей запрещено законом.
Все они понимали, что невозможно жить в разваливающейся тюрьме и что их несомненно переведут, и им нравилось делать вид, что желания узников могут как-то повлиять на ситуацию. Много спорили о том, кого переведут в первую очередь. Казалось очевидным, что первыми в другую тюрьму отправятся обитатели большой общей камеры, в которой рухнула крыша. Там все было покрыто слоем земли толщиной в полметра, окна и скамьи поломаны, а пол усыпан гнилыми досками.
Поскольку Гайсинская тюрьма не могла нас всех вместить, власти решили перевести общую камеру в Каменец-Подольскую тюрьму. Для некоторых это была радостная весть, но старикам, женщинам и детям она сулила одни неприятности. Им предстоял пеший путь в сотню верст, прикованными к железному стержню, который вынуждал всю партию двигаться длинной шеренгой. При такой системе для охраны узников требовалось лишь двое-трое конвоиров. Мой Нонкин рыдал, зная, что его единственный сын, идиот-калека, которого он с трудом поместил в сумасшедший дом, тоже должен будет отправиться в путь. Он просил, чтобы мальчику позволили идти неприкованным, но власти не дали разрешения.
Я видела, как они уходили. Калеку, как и всех прочих, приковали к стержню за руку. Дело было ранним утром. Холодная октябрьская роса покрывала железную ограду. Люди в лохмотьях выстроились вдоль стального стержня толщиной в большой палец. Многие были босыми и от холода топали ногами. Калека, которому было около 14 лет, одетый в тряпье и тощий как скелет, подпрыгивал высоко в воздух и кривлялся.
– Он припадочный, – прошептал Нонкин, и по его седым бакенбардам на поношенную солдатскую шинель потекли слезы. Зрелище было душераздирающим.
Вся общая камера тронулась в путь. Женщин решили отправить отдельно.
– Дядя Нонкин, – дразнились они, – тебе скоро придется покинуть службу. Что ты тогда будешь делать?
Жалкий старик хитро улыбался:
– У меня только одна узница, но она здесь пробудет долго. Пока она со мной, я за себя спокоен.
Он ошибался. Брацлавскую тюрьму временно закрыли на ремонт. Вторую партию отправили в Гайсин. Затем настал и мой черед. Меня уводили последней. Чиновник, втайне сочувствовавший мне, сказал:
– Вы поедете со становым. Он хороший человек, поляк, и жалеет вас, хотя не может этого показывать. Вы считаетесь важной государственной преступницей, и поэтому ему придется вести себя очень осторожно. Но вы можете смело говорить с ним.
Меня вывели из ворот и усадили в большую телегу, где я удобно устроилась на устилающей дно соломе. Рядом со мной сел дородный полицейский, и мы покатили в Гайсин быстрой рысью. Я понимала, что рядом со мной – хороший человек, это было видно по его лицу и облику. Он был поляк и, следовательно, не мог относиться ко мне с такой же враждебностью, как русские чиновники, ведь всего лишь десять лет назад вся Польша поднялась на кровавую борьбу за свободу. Я видела, что он хочет быть добрым со мной, но не могла заставить себя заговорить с ним. Его полицейская форма и дело, которое он выполнял, ставили между нами барьер. Я знала, что он наверняка застрелит меня, если я попытаюсь бежать, и что точно так же он поступит с любым другим заключенным, поскольку должен поддерживать свою репутацию способного полицейского и думать о дальнейшей карьере.
Стоял ясный, солнечный день. После сырой, холодной камеры со стенами, покрытыми плесенью, было приятно оказаться на широкой, открытой равнине, испещренной золотистыми тенями. Я чувствовала, что с удовольствием бы ехала так вечно. Наша поездка продолжалась три часа. Наконец мы добрались до Гайсина, где и остановились. Ворота тюрьмы выглядели точно так же, как в Брацлаве, и были такими же старыми. Очевидно, все тюрьмы Подольской губернии были выстроены одновременно. Похоже, все они представляли собой обнесенную стеной группу одноэтажных зданий вокруг главного центрального строения, с камерами-одиночками, расположенными в стене.
Ворота открылись, и моя телега покатила прямо ко входу в одиночки. Во дворе было много заключенных. К моему удивлению, они окружили телегу, приветствовали меня и протягивали подарки. Многие совали яблоки и калачи.
– Берите, берите, барыня, – говорили мне. – У нас и деньги есть, мы сами раскошелились. Возьмите их, пожалуйста.
Я отказывалась. Мне все-таки всучили пару яблок и калач. Пришлось взять их, чтобы никого не обидеть. Узники знали, что я – на стороне народа, и хотели выказать свою признательность. Им не приходило в голову, что у меня может вызывать отвращение способ, которым они вручают мне дары.
Позже я узнала, что заключенным нравилось, когда среди них оказывался кто-нибудь из более высоких социальных слоев. Более развитые заключенные, даже закоренелые преступники, считали честью прислуживать «политическим» и не ожидали за это награды.
В Гайсине меня ждала точно такая же сырая, холодная камера в такой же стене. В Брацлаве у меня уже развилось что-то вроде легкого паралича всего правого бока моего крепкого тела. Почти неделю я ощущала слабость в правой руке и ноге, а мой правый глаз стал хуже видеть. Он оказался испорчен навсегда. Я не могла заснуть из-за холода и всю ночь лежала без сна, размышляя, что ждет меня в ближайшем будущем. Уже рассвело, когда меня вызвали в караульную комнату. Я немедленно встала, так как не раздевалась.
Утро было холодным. Мусор во дворе покрылся инеем. В караульной комнате меня ждали два великана-жандарма. При моем появлении они улыбнулись.
– Мы приехали за вами, – сказал один из них. – Укутайтесь потеплее. Очень холодно, а ехать нам долго.
Мне дали хорошую шубу. Я ничего не говорила, пока мы не уселись в телегу, и только тогда спросила:
– Куда вы меня везете? В Подолию?
Более пожилой из жандармов – седовласый старик – после секундного колебания ответил:
– В Киев.
Он был в добродушном настроении, но, как хитрый лис, не задавал вопросов, а лишь непрерывно говорил о себе. Он сказал, что не считает себя настоящим жандармом, так как охрана границы не имеет никакого отношения к политике.
– Мое дело, – сказал он, – ловить контрабандистов и сажать в тюрьму хищников. Проживя на одном месте несколько лет, жандармы завязывают дружбу с местными жителями и не так ревностно исполняют свои обязанности. Из-за этого после пяти лет службы в одном месте их переводят в другое. Само собой, когда ты обзаводишься семьей и домом с курами и коровой, тебе нельзя ссориться с окружающими, а то твое хозяйство могут подпалить. Но если у тебя ничего нет, то тебе и бояться нечего. Мне интересно только одно – ловить людей и сажать их в тюрьму.
Вероятно, я проспала весь путь, потому что ничего не помню. Я забыла, куда меня привезли вначале, но наконец мы добрались до тюрьмы и я оказалась в светлой, сухой одиночной камере в женском отделении.
Узницам была любопытна новая заключенная, которую окружала такая тайна. Официально я по-прежнему была Фекла Косая, неграмотная крестьянка, но начальство уже давно поняло, что это неправда, и тщательно изучало показания некоего Ларионова, арестованного в Киеве, – презренного негодяя, который в попытках спасти себя совершал всяческие поступки, мерзкие и недостойные в глазах не только революционеров, но и властей.
Приближался ноябрь. Я не мылась с самого лета. Пришлось напомнить властям, что согласно правилам я имею право на баню каждые две недели. Однако в этом мне было отказано, и я очень страдала от грязи. Со мной обращались так, как правила предписывали в отношении крестьян.