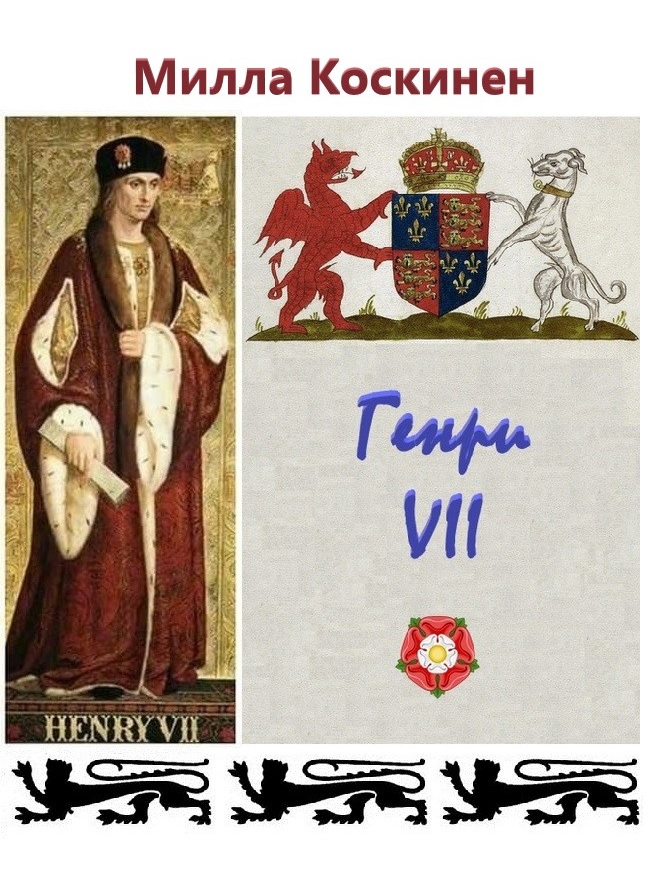простака к одному из самых хитромудрых европейских дворов.
Де Фуэнсалиду Генри VII уже имел «счастье» видеть в самом начале 1500-х, когда два дипломата, де Пуэбло и де Айяла, грызлись насмерть за пост в Лондоне. Уже тогда король понял, что его глупая невестка не в состоянии оценить верность де Пуэблы по двум причинам: во-первых, даже в той тихой мышке, какой Катарина была после смерти Артура, жила душа истинной испанской аристократки, со всей спесью, свойственной этой породе, и с полным недопущением мысли, что в чем-то может быть неправа и она.
Проще говоря, чем недоступнее для неё было новое замужество с принцем Гарри, тем ожесточеннее она оскорбляла того, кто это дело настойчиво продвигал — посла. Во-вторых, будучи истинной дочкой своей матери, Катарина просто не воспринимала де Пуэблу союзником в частности да и человеком вообще, потому что он был евреем. То, что де Пуэбла был христианином, ничего не меняло. Дочери королевы Изабеллы действительно верили в то, что Господь хочет полного истребления евреев, и может наказать их, если они будут услугами евреев пользоваться.
Сам Генри VII знал, что де Пуэбла был верен Катарине и королю Фердинанду абсолютно. Но они, король и посол, слишком долго друг друга знали, чтобы король Генри мог ввести де Пуэблу в заблуждение. Поэтому назначение чванливого де Фуэнсалиды короля, маневрирующего между Габсбургами и Фердинандом, вполне устраивало. Он даже принял посла лично, держа за руки свою дочь Мэри (в перспективе, жену сына Хуаны) и Катарину, и разливался соловьем о том, каким прелестным созданием его сын считает эту леди. Разливаться было вполне уместно, потому что вместе с де Фуэнсалидой прибыл представитель банка Гримальди с поручениями на выплату пресловутой доли приданого Катарины.
Принц Гарри, несомненно, считал Катарину прелестным созданием, когда он её видел. Но поскольку видел он испанскую принцессу редко, а интересы его полностью были сосредоточены на грядущих весенних турнирах и исполнении обязанностей отца на публичных мероприятиях, нельзя сказать, чтобы ситуация со статусом Катарины при английском дворе как-то изменилась. Банковские поручения, с которыми прибыл де Фуэнсалида, покрывали две трети недоплаченного приданого принцессы. Остаток, как считал Фердинанд, должен был быть покрыт за счет драгоценностей и драгоценных столовых приборов Катарины.
«Вовсе нет», — с приятной улыбкой возразил Фокс новому послу. По брачному договору между Катариной и Артуром, права на эти ценности перешли к Артуру в день свадьбы, а после его смерти перешли к королю. Так что если его католическое величество желает увидеть какое-то продвижение в деле с браком принцессы Катарины и принца Гарри, он должен раскошелиться, и доплатить оставшуюся четверть приданого в звонкой монете.
Де Фуэнсалида бесился, требовал встречи с королем, но Генри VII надёжно укрылся в своих внутренних палатах, занимаясь финансами и интригами, слушая менестрелей и поглощая изысканные блюда своего французского повара. В конце концов, это была всего лишь мелкая месть Фердинанду за то, что тот годами тянул с выплатой приданого дочери и не слишком-то поощрял любовь его величества к прекрасной и далекой Хуане. Фердинанд всё это понимал, разумеется, и поэтому велел послу сблизиться с принцем. В конце концов, Генри VII мог умереть в любой момент, и тогда его наследник сам мог решать, на ком ему жениться.
Проблема для посла была в том, что Генри VII тоже прекрасно понимал, в каком направлении будет действовать Фердинанд, и понимал, что его сын находится в романтическом возрасте, в котором молодые люди совершают всякие глупости. Так что принца аккуратно держали подальше от двора, давая ему возможность упражняться на ристалище сколько угодно, а в Ричмонде в покои принца можно было попасть только через покои короля. Был ли сам принц Гарри недоволен таким плотным присмотром? Испанские послы отмечали, что рядом с отцом он вел себя тише воды и ниже травы, и вступал в разговор только тогда, когда отец его к этому приглашал, но они клялись, что какое-то напряжение между этими двумя было, хотя и не могли определить, в чем оно заключается.
Возможно, дело было просто в разнице темпераментов. Гарри явно пошёл в Плантагенетов. Во всяком случае, среди политиков, своих и иностранных, не было никого кто сомневался бы, что со сменой короля изменится внешняя политика королевства. Гарри, в отличие от своего отца, на собственной судьбе испытавшего, что такое война, хотел воевать.
Что касается войны, то ничего особо нового и многообещающего на фронтах не происходило. Император Максимилиан в очередной раз получил со своей армией, нанятой на деньги Генри VII, по мордасам от венецианцев, с которыми тот же Генри VII если и не дружил, то имел дело. Так что, с одной стороны, Максимилиан снова нуждался в английских деньгах. С другой же стороны, он не торопился посылать в Англию свадебное посольство, которое официально сделало бы дочь Генри VII женой драгоценного внука-наследника Габсбургов, Карла.
Помимо этих имперских планов, было и кое-что ещё, что Генри VII хотел бы выжать из Габсбургов. Когда в июне он неофициально беседовал с послом Маргарет Савойской, он колко напомнил о том, что в Нидерландах до сих пор укрываются Ричард де ла Поль и Джордж Невилл, и что Маргарет не делает решительно ничего против этих врагов его английского величества, а надо бы. Было сказано и ещё кое-что, заставившее посла Габсбургов почувствовать себя неуютно и понять, что король практически решил заключить альянс с Францией, если его желания относительно свадьбы дочери и преследования его врагов не будет исполнены с достаточной быстротой.
Напугав посла Маргарет Савойской до икоты, король удалился по Темзе в Лондон, где начал проводить время с максимальной для себя приятностью, заказывая книги и охотясь. В Ханворте, он был недосягаем ни для придворных, ни для политиков. А отдохнув, снова направился в прогресс, хотя из Лондона летом 1508 года народ разбегался не только ради зеленой травки и красот сельской Англии — в столице снова вспыхнула потовая лихорадка. Впрочем, болезнь была чрезвычайно заразна, так что случаи были и при дворе короля — заболели и Ричард Фокс, и Хью Дэнни. С течением болезни было всё ясно: заболевший или умирал в течение нескольких часов после проявления симптомов заражения, или достаточно быстро выздоравливал. Все заболевшие придворные его величества остались живы. Тем не менее, король объявил своего рода карантин: королевский двор изолировался. Придворным было запрещено ездить в города, прибывшим из города — являться ко двору. Исключение было сделано для медиков, по очевидным причинам. Можете себе представить, как на людей, живших в 1508 году, подействовала изоляция и