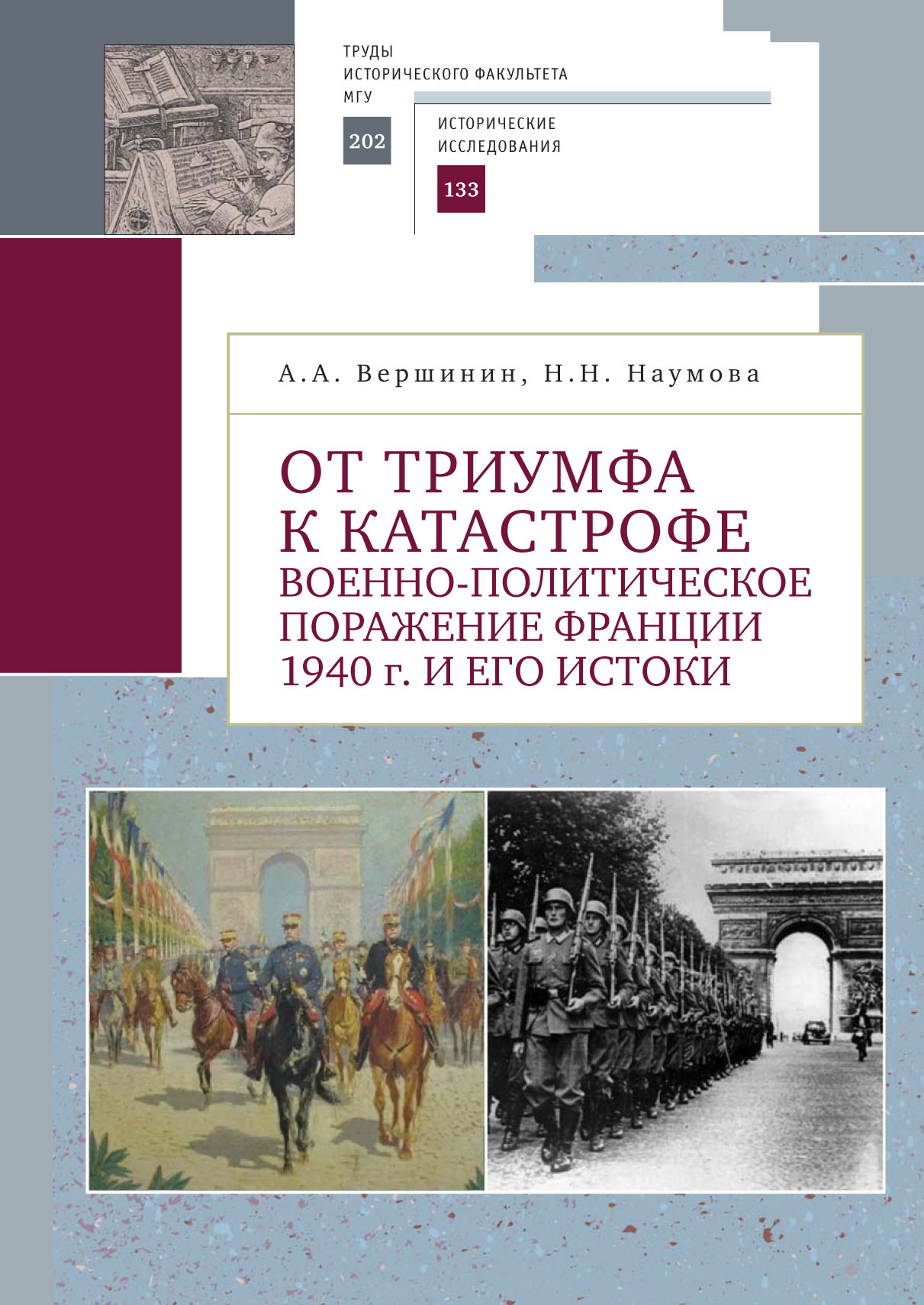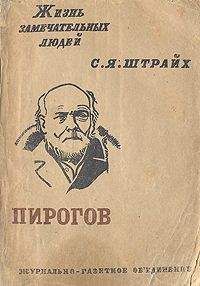локальных боевых действиях. Участник военных событий лета 1940 г. Ф. Гренье, некоторое время после объявления перемирия проживавший в небольшой деревушке, где работал сезонным рабочим на винограднике, вспоминает разговор двух фермеров, отца и сына, о положении дел во Франции. Старый фермер ворчал, что «Франция разгромлена», а молодой возражал: «Но это еще не повод пустить все на самотек!». По словам Гренье, в этом и заключалась суть «той драмы, в которой предстояло существовать Франции. Были те, подавленные духом, кто принял поражение; но находились и другие, которые, уже прислушиваясь к страстному призыву жизни и обращаясь к своему патриотизму, воспряли духом и понемногу становились творцами возрождения Франции» [1649].
Германский агитационный плакат, распространявшийся во Франции в 1940 г. Надпись по-немецки: «Брошенные жители, доверяйте немецкому солдату!».
Источник: Theo Matejko / Wikimedia Commons
Интересны рассуждения о реакции – «в определенной смысле деревенской» – значительной части французов на военное поражение Франции летом 1940 г., высказанные историком А. Бельтраном: оно являлось в их глазах не событием «мирового масштаба», а «обычным проигрышем в войне, коих было немало в истории франко-немецких отношений. Убеждены они были в том, что раз уж война закончилась поражением для родной страны, надо продолжить жить и работать, сотрудничая с победителями ради сохранения Франции и французской нации. Первоначально эта часть французских граждан поверила в то, что национальное возрождение, обещанное Петэном, позволит им преодолеть врага, и таким образом превратилась в вишистов. К тому же особые надежды на национальное возрождение они связывали с тем, что в руках вишистской администрации сохранилось управление частью страны и главное – французской колониальной империей» [1650].
Однако поддержанный большинством французов в обстановке национальной катастрофы и унижения режим Виши изначально был обречен на провал. По справедливому утверждению П. П. Черкасова «по мере того, как рассеивались первоначальные иллюзии, связанные с личностью и политикой маршала Ф. Петэна, как становилась очевидной та унизительная и постыдная роль, которую Гитлер отвел вишистскому государству в “новой Европе”, превратив поверженную Францию в своего рода огромный интендантский склад “Третьего рейха”, по мере того как ужесточался оккупационный режим, общественные настроения все более определенно склонялись в пользу Сопротивления, вовлекая в него новых и новых бойцов, принадлежавших к самым различным слоям общества» [1651].
Исход войны и разгром Германии в 1945 г. заставили французов переосмыслить свое отношение к вишизму и коллаборационизму, помогли им сплотится в едином порыве, направленном на восстановление государственно-политических структур Франции, но «беспрецедентный травматизм, испытанный французской нацией, оставил, по мнению известного американского историка С. Хоффмана, раны и глубокие шрамы в коллективной памяти и в последующей истории [Франции – авт.]» [1652].
Указанный феномен ставит перед исследователями несколько вопросов. Первый заключается в том, можно ли считать травматизм от военного поражения и «исхода», так называемый «травматизм разгрома», только эпизодом, пусть и самым глубоким и тяжело воспринимаемым в «целой серии травматизмов», переживаемых Францией в 1930-1940-е гг., например, от экономического кризиса, политической поляризации, вызванной приходом к власти Народного фронта в 1936 г., «мюнхенского сговора» 1938 г., «размежевания общества на вишистов-коллаборационистов и аттантистов-сопротивленцев», обстоятельств Освобождения страны в 1944 г., которые Хоффман называет «практически гражданской войной»? Ученый полагает, что в истории Франции с этой точки зрения выделяется компактный «временной блок со всеми его конвульсиями» – 1934–1946 гг., а в нем особое, очень важное место занимают события эпохи военного поражения, повлиявшие на коллективную память своим драматическим исходом [1653].
Другой вопрос касается причин довольно скромного интереса французских историков к сюжету «разгрома 1940 г.». Действительно, первые 50 лет после поражения Франции его история изучалась главным образом по воспоминаниям и свидетельствам очевидцев – Ш. де Голля [1654], М. Блока [1655] и Л. Блюма [1656]. Только в 1990 г. появился первый обобщающий двухтомный труд известного историка, участника движения Сопротивления Ж.-Л. Кремьё-Брийяка «Французы 1940-го года», в котором на основе многочисленных документов излагались интересные факты и выводы по истории Франции, связанные с ее военным крахом и последовавшей за ним сменой политического курса. К этому моменту уже существовала обширная историография политической истории «поздней» Третьей республики, правительства Виши и движения Сопротивления, но не военного поражения 1940 г.
Объяснение этому несоответствию дает анализ восприятия французами событий тех лет. Изучение их коллективной памяти позволило С. Хоффману выделить две ее главные характеристики: чувство сопричастности к очень серьезной катастрофе, вторжения в обыденную жизнь людей «чего-то почти мистического по скорости и необычности происходящего»; а также чувство унижения и стыда за пережитое [1657]. Об этом же рассуждает ведущий французский историк Р. Ремон. Исследователи Ж.-П. Азема, С. Берстайн, П. Мильза, М. Ферро и другие в своих работах также рассматривают особенности коллективной памяти французов, переживших поражение, «исход» и оккупацию страны. Вслед за западными коллегами российский франковед Ю. И. Рубинский подчеркивает, что начало Второй мировой войны стало для французов «тяжелейшей психологической травмой». То, что произошло во Франции в июне 1940 г., «создало в коллективной памяти, даже в психологии национальной. некое вечно больное место, которое трогать очень не хочется никому» [1658]. В этом ряду «трагических ситуаций» особое место занимает массовое, неконтролируемое, беспрецедентное по накалу страстей и количеству психологических травм бегство людей от всевозможных «ужасов» оккупации: «исход» для французов стал «синонимом хаоса, всевозможных опасностей, разделенных семей и разграбленных домов» [1659].
С. Хоффман сравнивает в своей работе коллективную память населения Третьей республики о Первой и Второй мировых войнах и делает интересный вывод: в коллективной памяти о войне 19141918 гг. доминировало «чувство долгого и острого страдания». Для людей 1940 г. события лета были связаны с «ощущением неожиданного и грубого удара по голове и в сердце». Этот удар, ассоциировавшийся у них с военной катастрофой и неуправляемым хаосом, имел следствием «двойное передвижение» людей – физическое и географическое (массовое бегство, концлагеря, для некоторых – вынужденная эмиграция, как например, для де Голля и его соратников, оказавшихся в Лондоне), а также ментальное, психологическое (переход от привычного индивидуализма к коллективизму военного времени). Люди, вырванные из привычной среды, ощущали тягу к принадлежности к какой-то группе, будь то трагическое единение узников концлагеря или партизанское сообщество участников движения Сопротивления [1660]. О том, что в ходе «исхода» беженцы стремились объединиться в группы и действовать, то есть бороться с трудностями, сообща, пишет в своих мемуарах полковник А. Уийон [1661].
Второй характеристикой коллективной памяти 1940 г. обычно называют унижение или даже стыд. Эта часто встречающаяся психологическая ситуация – довольно распространенная в истории различных народов – требует от них поиска утешения и оправдания. Часто и на бытовом, и на официальном уровне, когда речь заходит о малоприятных или унизительных моментах военного поражения или политического фиаско