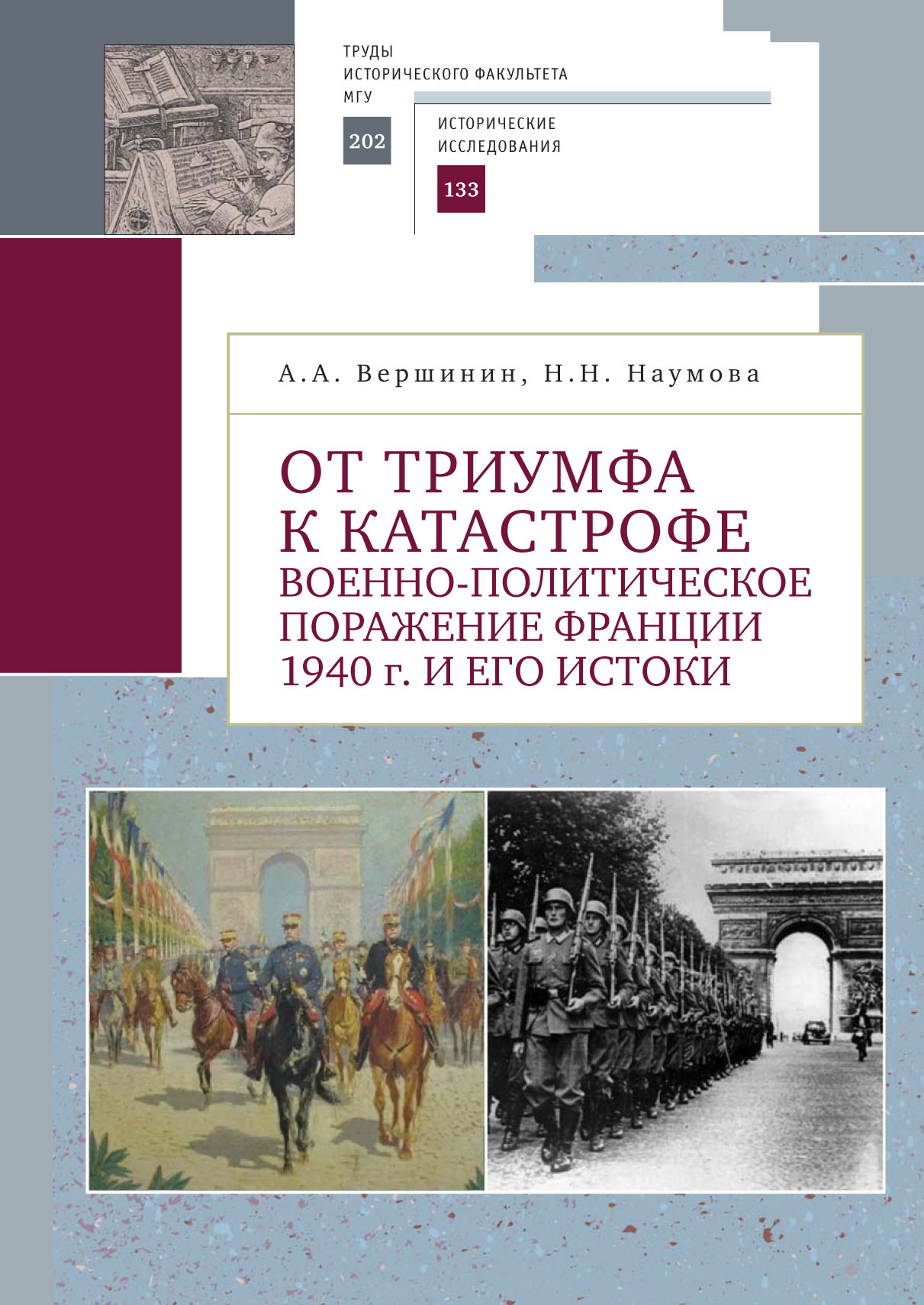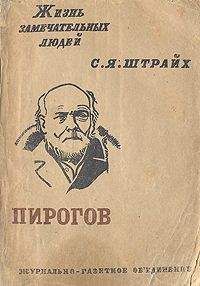газеты продолжали твердить о стойкости французской армии на линии Weygand, каковая уже давно и географически, и морально, и физически перестала существовать. Продолжался этот колоссальный обман общественного мнения, который никого не обманывал» [1616]. А. Симон утверждает, что «французский народ держали в неведении либо пичкали его лживыми измышлениями», «держали в ослеплении его правители, имевшие все основания боятся света» [1617]. Но тем труднее оказалось французам принять нелицеприятную действительность: Франция проиграла войну, победы не будет, надо смириться с унизительным поражением.
В трагические дни мая-июня 1940 г. государственная власть оказалась полностью дискредитированной в глазах французов своей беспомощностью, растерянностью и эгоизмом ее представителей, фактически отказавшихся нести ответственность за судьбу страны. К. К. Парчевский отмечает несколько фактов, поразивших его в ходе военного разгрома Франции и «исхода» населения. Это то, каким образом эвакуировались правительственные учреждения перед сдачей Парижа: сначала уезжал «начальствующий персонал», затем «чиновники помельче», вслед за ними город покидали «приюты, больницы, родовспомогательные заведения»; и то, что «никаких распоряжений об эвакуации населения, бросившее Париж и его обитателей на произвол судьбы и победителя правительство не давало» [1618]. На глазах у французов рушилась политическая система Третьей республики, весь строй страны, создававшийся десятилетиями. По убеждению генерала де Голля, «с того дня, как правительство покинуло столицу, государственная власть находилась в состоянии агонии, что выражалось в беспорядочном бегстве по дорогам, в расстройстве всех тыловых служб, в нарушении дисциплины во всех областях жизни и во всеобщей растерянности» [1619].
Управление на местах также пришло в расстройство. А. Н. Рубакин вспоминает, что «власти на местах либо потеряли всякий авторитет, либо сами бежали первыми и, пожалуй, не столько от приближающегося врага, сколько от своих же французов, словно боясь ответственности перед ними.» [1620]. Г. Уотерфилд вспоминает случаи, когда «местные власти, выяснив, что в результате бомбардировки и диверсионных актов нормальная связь с Парижем прервана, садились в машины и ехали в Париж, чтобы узнать, что им делать. Многим из них не удалось вернуться обратно, так как дороги были загружены, и население оказалось брошенным на произвол судьбы. Некоторые, впрочем, с самого начала не собирались возвращаться, так как знали. что немцы приближаются» [1621]. Там, где муниципалитеты функционировали, их руководство размещало в городках и деревнях разрозненные батальоны французской армии, кое-где контролировало постройку небольших заградительных сооружений, пыталось обеспечить население водой и продовольствием, о чем свидетельствует Ф. Гренье. Полковник А. Уийон в своих мемуарах рассказывает о том, что 20 или 21 мая военные грузовики отвезли беженцев, среди которых находилась и его семья, в маленький населенный пункт Мелей-дю-Ман, и после долгих часов ожидания «под жарким солнцем во дворе школы» мэр распределил уставших людей по семьям местных фермеров. А. Уийон и его близкие нашли там прибежище на долгие три года [1622]. Местные власти организовали волонтерскую службу, раздачу хлеба; монахи из семинарии в городе Лаваль кормили голодных беженцев. Но в целом, утверждают очевидцы, в стране в конце мая-июне царила полная дезорганизация деятельности даже тех государственных структур, которые пока еще не распались.
Измученные люди ждали конца разворачивавшейся на их глазах национальной катастрофы. Р. Ремон утверждает, что смятение «этих толп, этих разъединенных семей», смерти, мародерство, голод оставили неизгладимый след в коллективной памяти, такой же глубокий, как военное поражение армий. Эти две, параллельно разыгравшиеся драмы, по своей сути – настоящие трагедии, «устранили традиционное различие между передовым краем и тылом, гражданскими и военными, оказались определяющими [для жизни Франции – авт.] факторами» [1623]. Неспособность государственной власти справиться с военными неудачами и социальным кризисом, тяжелейшие страдания безвинных людей, всеобщее ощущение подавленности и быстрого развала страны, «разрыв текстуры социальной ткани французского общества» [1624] требовали от политического класса ответа на непростой вопрос: не пора ли на любых условиях остановить сражение? Положительно ответил на него последний глава правительства Третьей республики маршал Петэн, после своего избрания председателем Совета министров 16 июня 1940 г. призвавший немедленно – «во имя нации» – прекратить войну. В качестве главного морального оправдания подобного решения он использовал «исход», мучения французов в возникшем всеобщем хаосе.
Именно поэтому и приход к власти Петэна, и его переговоры о перемирии с нацистским руководством, и его первые правительственные шаги, очевидно, недемократического характера, прежде всего «несовместимая с законами 1875 г. конституционная реформа, устанавливающая в пользу Маршала абсолютную диктатуру» [1625], нашли поддержку у значительной части как французской политической элиты, так и простых обывателей, которые, по выражению военного историка Ж.-Л. Кремьё-Брийяка, переживали «почти биологическую необходимость в восстановлении и выходе из создавшейся ситуации» [1626]. Схожую мысль высказывает известный французский политолог и правовед Ф. Бюрдо: «Это правда, что французы ничего не попытались сделать для защиты демократии и согласились на приход к власти петэновского режима. Но это произошло не столько из-за того, что Республика долгие годы была изолирована от граждан, сколько из-за внезапности шока от предыдущих событий: разгрома, испытаний исходом. Они заставили их [французов – авт.] укрыться за авторитетом старого маршала, по-отечески обнадеживавшего и успокаивавшего» [1627]. «Кажется, – отмечает Ж.-П. Азема, – что внушительное большинство французов почувствовало облегчение, увидев в Филиппе Петэне вершителя судеб Франции, побежденной и оккупированной». Он представлялся им одновременно защитником от жестокого победителя и человеком, способным разрешить «очень серьезный кризис национальной идентичности, в который погрузились глубоко униженные французы» [1628].
Свидетельства участников «исхода» подтверждают выводы историков. Когда стало известно об отставке Рейно, многие беженцы восприняли эту новость с радостью, зная намерения Петэна, возглавившего правительство, как можно быстрее заключить с немцами соглашение об окончании войны. По словам А. Н. Рубакина, один из беженцев, крупный фабрикант, «с удовольствием сказал, что “ну, теперь будет, наконец, мир”» [1629]. А. Н. Рубакин описывает любопытную психологическую сцену, которую он наблюдал 18 июня 1940 г. Речь шла о беженцах, пытавшихся в одном из перевалочных пунктов добыть бензин на складе горючего: все ругались, мужчины отталкивали женщин, сквернословили. Вдруг прошел слух – ошибочный – о подписании перемирия Франции с Третьим Рейхом: «лица вспыхнули животной радостью, послышался громкий, глупый и блаженный смех спасшихся от смертельной опасности людей. Атмосфера резко изменилась», все стали вежливыми и обходительными. Некоторые принялись громко восхвалять маршала Петэна. «Условия перемирия никого не интересовали. Главное одно – этот кошмар прекратился» [1630].
Р. Арон рассказывает, что речь Петэна 17 июня была встречена в его окружении «с облегчением, как решение, естественно происходившее из сложившихся обстоятельств». Арон, двигаясь с беженцами на юг, много раз обсуждал со своими попутчиками альтернативу: капитуляция армии и переезд французского правительства в Северную Африку или перемирие с