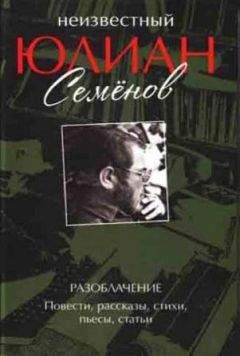Один журналист показал ему свой очерк, в котором рассказывалось, что Годенко сидит по ночам за столом и что его освещенное окно знают все на Диксоне: только один начальник экспедиции сидит за работой до шести утра.
Годенко рассвирепел. Обычно доброе и круглое лицо его сделалось красным, будто ошпаренным.
- Эт-то что такое? - спросил он журналиста шепотом, потому что боялся раскричаться и наговорить грубостей. - Позор какой! Как же вам не стыдно, а? Ну подумайте только, какую вы подлость делаете по отношению к летчикам, которые летят ночью на полюс, по отношению к ученым, которые сидят на льду и ведут исследования и в шесть вечера и в три ночи. Я не хочу думать о вас плохо, изорвите это сочинение, неприлично так поступать...
Годенко, бреясь, перестал смотреться в зеркало. Он седел ото дня ко дню. Он скоблился, напевал под нос джазовую песенку и думал: "Все-таки солдатом быть лучше, чем генералом. Это - истина, но, к сожалению, в нее начинаешь веровать только после того, как сам сделаешься генералом неважно, армейским, от науки или от промышленности. И напортачить нельзя, чтобы разжаловали, - люди страдать будут, напортачь я хоть в мелочи..."
9
Вылет Струмилина был назначен на послезавтра. Он был прикреплен к экспедиции Владимира Морозова, занимавшейся установкой автоматических радиометеорологических станций на дрейфующих льдах.
- А нельзя ли на один день попозже? - спросил Струмилин.
- Почему? - удивился Годенко. - Самолет не исправен?
- Да нет, лыжу нам заменили.
- А что такое?
- Второй пилот у меня заболел. Ангина страшнейшая.
- Большая температура?
- Тридцать восемь было утром.
Годенко обернулся к Морозову.
- Ну, Володя, решайте.
Морозову было приятно, что к его экспедиции прикреплен Струмилин. Еще бы, один из лучших летчиков страны будет работать вместе с ним. Поэтому Морозов сказал:
- День - ерунда. Подождем.
- Хорошо, - согласился Годенко. - Так и занесем в график. Хорошо?
- Есть, - сказал Струмилин.
- Договорились, - сказал Морозов.
Струмилин спустился в столовую, выпил томатного соку, купил московский "Казбек"
и пошел к себе в номер. По дороге он заглянул к Богачеву - узнать, как дела.
Кровать Павла Богачева была аккуратно застелена.
Струмилин зашел к Аветисяну и Броку.
- Где Паша? - спросил он. - Пошел к врачу, что ли?
- Не знаю, - сказал Аветисян, - к нам он не заходил.
"Может быть, побежал отослать радиограмму, - вдруг подумал Струмилин и улыбнулся, сразу вспомнив Женю. - Сейчас я тоже пойду на радиоцентр и пошлю ей радиограмму".
Он зашел к себе одеться. На столе лежал конверт. На нем было написано:
"П.И.Струмилину. Лично".
Струмилин разорвал конверт. Там лежал бюллетень Богачева и записка от него. В записке было написано: "Павел Иванович, я поступаю как настоящая свинья, но я не могу поступить иначе. У меня бюллетень на четыре дня. Меня не будет в Диксоне три дня. Я буду в Москве. Я не обманываю Вас: у меня сейчас уже не тридцать девять, а тридцать девять и три. Запись есть у. врача. Сидеть за штурвалом рядом с вами и с ребятами мне не разрешат так или иначе - я заразный, ангина передается через дыхание. Если я не прилечу через три дня, то можете считать меня законченным подлецом, но только я прилечу. Я обо всем договорился с ребятами из транспортного отряда. Павел Богачев".
10
Шли последние дни съемок. Работали по две смены, нервничали, "гнули картину", чтобы успеть к срокам. Женя так уставала после работы на площадке, что подолгу сидела в костюмерной, не в силах ни переодеться, ни умыться как следует, чтобы сошел грим и не щипало лицо, пока едешь в троллейбусе до дому.
"Скорее бы все это кончилось, - думала Женя, сидя у зеркала в пустой и темной костюмерной, - ужасно устала, просто сил моих нет. Так хочется уехать куда-нибудь за город на неделю, чтобы ничего не делать, а просто спать и ходить по лесу. Боже мой, какое прекрасное название романа о войне - "Мы еще вернемся за подснежниками!" Дура, почему я не учила французский? Кажется, по-французски:
"Nous retournerons cueillir les jonquilles". Очень красиво это звучит".
Женя улыбнулась и стала стирать грим.
"Зачем они кладут так много тона? - подумала она о гримершах. - Вся кожа потом горит и трескается".
Женя переоделась, положила полотенце и мыло в сумку и пошла по длинному коридору к выходу. Огромная киностудия работала и ночью. Над входами в ателье висели грозные черно-красные надписи: "Тихо! Идет звукосъемка". За большими закрытыми дверями сидели люди, которые отдавали кино всю свою жизнь, без остатка. Они даже не отдыхали, потому что переходили из одной картины в другую и только через несколько лет получали трехмесячный отпуск - вроде полярников.
"Какое великое таинство! - думала Женя. - Из кусочков, отснятых ценою крови, нервов, бессонных ночей, складывается искусство кино, которое так любит наш народ. И ничего не знает о нем".
Вчера Женя возвращалась домой с последним троллейбусом. На задних местах сидела подгулявшая веселая компания молодых людей. Когда троллейбус пошел дальше и огни студии остались позади, кто-то из молодых людей сказал:
- Дом миллионеров проехали!
- Почему?
- А как же! В кино снимается актер, сразу сто тысяч отхватит - и точка!
"Что за чушь? - сердито думала Женя. - Я получаю сто двадцать рублей в месяц и работаю без выходных в две смены. Как же можно говорить так?"
Сначала она решила сразиться с этой веселой, подгулявшей компанией, но потом подумала, что это будет смешно и жалко. Да и какая разница, думала Женя, пусть говорят все, что хотят. Искусство создается не для тех, кто подсчитывает заработки актеров.
Женя шла по длинному пустому коридору киностудии и уже не чувствовала такой усталости, потому что кругом здесь люди творили искусство, а искусство не знает усталости. В искусстве устают только бездарные люди.
"Я пойду домой пешком, - решила Женя и улыбнулась, - очень хорошо пройти по спящей Москве. И ничуть я не устала, я много и хорошо работаю, а это не усталость: просто избыток радости".
Она засмеялась своей хитрости и пошла быстрее, размахивая сумкой, в которой лежало полотенце и дегтярное мыло.
Лифт уже не работал. Женя поднялась на шестой этаж и увидела около своей двери человека. Человек сидел в меховой куртке и спал. Женя опустилась на колени и заглянула в лицо спящего. От лица несло жаром, как от печки. Губы у человека были потрескавшиеся, скулы выпирали, а у переносицы залегли злые морщины.
- Боже мой, - сказала Женя, - это же Богачев!
Богачев открыл глаза, посмотрел на нее красными, воспаленными глазами и сказал:
- Добрый вечер.
Потом он достал из кармана меховой куртки смятый букет ландышей и протянул их ей. Женя села рядом с ним и стала целовать его лицо, воспаленное и горячее.
Глава III
1
Подошел день вылета, а погоды все не было. Уже второй день подряд мела пурга. В номерах гостиницы было темно. И вечер и утро были одинаковые серые, тоскливые и непроглядные. Аветисян играл с Броком бесконечную партию шахмат, а Струмилин подолгу сидел у Морозова и его ребят. У него были славные ребята. Они проработали в Арктике много лет. Зиму и лето они проводили в Ленинграде, в Арктическом институте, а осень и весну - здесь, на льду. Морозова и его ребят в Арктике звали не иначе, как "Их было пятеро". Они были неразлучными друзьями, хотя должностное положение каждого из них здесь и в Ленинграде очень сильно разнилось. Морозов был известный ученый, его заместитель Володя Сарнов - инженер, лауреат Ленинской премии, а трое ребят - Геня Воронов, Женя Седин и Сема Родимцев - простые рабочие, помогавшие Морозову и Сарнову совершенствовать и устанавливать в дрейфующих льдах ДАРМСы - дрейфующие радиометеостанции. Но и в Ленинграде и в Арктике они были неразлучны и дружны настоящей мужской дружбой - спокойной, скупой на внешние проявления и очень чистой.
Струмилину нравились люди Морозова, он играл с ними в кинг, причем настаивал, чтобы и ему били картами по носу в случае проигрыша; не торопясь, обговаривал план предстоявших работ, хохотал над анекдотами, которые рассказывал Сарнов, и даже выпил однажды вместе с ними двадцать пять граммов спирту.
Проводя время с ребятами Морозова, Струмилин старался не думать о Богачеве, но чем больше он старался не думать о нем, тем больше и тревожнее думал.
Он понимал, что Богачев нарушил все правила и распорядки; он понимал, что узнай кто-нибудь о поступке Богачева - и прощай его летная карьера; он понимал и то, что обязан был сам доложить о случившемся, но тем не менее знал, что никогда и никому не доложит.
Его отношение к Павлу, поначалу очень сложное, сейчас все больше и больше выкристаллизовывалось в любовь. Он полюбил этого парня за то, что в нем было много от Леваковского. Но не только за это он полюбил его. Он полюбил его, потому что видел в Павле себя самого - младшего. Он был таким же горячим на решения, безапелляционным в мнениях, отчаянным в воздухе. Струмилину нравились люди решительного склада характера. Ему нравились те, которые, говоря д а, имеют в виду д а и только д а. И, наоборот, уж если сказано н е т, так оно должно быть окончательным и жестким. Формулировки вроде "мы посоветуемся", или "мы обменяемся мнениями", или "мы вынесли предварительное решение" казались ему преступно-равнодушными, черствыми и бесчеловечными.