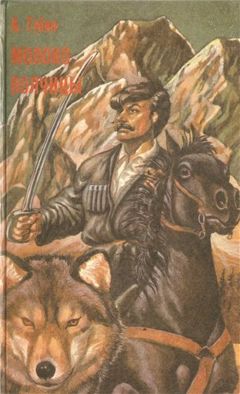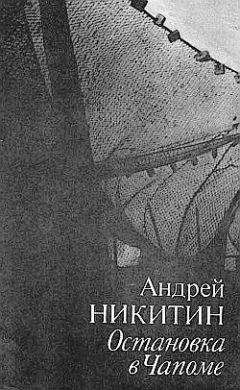— Ну чего ты, вот он, твой Митька, чего ему, бугаю, делается!
Примчалось станичное начальство на хромом коне в санках. Откуда-то появился корреспондент, просил сотню снова сесть на коней и обвешаться оружием — фотографировать будет. Пришлось влезать на коней, хотя нет уже сил, а вороненая сталь, верная, безотказная, смертоносная, оружие это насточертело.
С юных лет наган и шашка были продолжением рук Спиридона — такой ему выпал век. А теперь все, точка, каюк — надо сдавать, расставаться с верной сталью навсегда. Старое казачье оружие дорого ему и тем, что он не принял ни чудовищных калибров дальнобойной артиллерии, ни мин, ни авиабомб. Их и оружием называть не хочется, они действуют как бы самовольно против людей. Нажмет рычажок плюгавенький паршивец в окулярах — и душ двести, а то и триста взлетят в небо кусками требухи. Или, к примеру, газы — какое же это оружие? И он погладил рукоять старого, отцовских времен, кинжала.
Спиридон и Дмитрий не хотят стоять рядом, набычились друг на друга. Вражда совхоза «Юца», где жил Спиридон, и колхоза имени Тельмана началась еще в пути. Командир доказывал, что скот совхозный, в крайнем случае пополам с колхозом, а зоотехник настаивал гнать коров в колхоз. Игнат и женщины — Иван не вмешивался в большие дела — приняли сторону зоотехника: колхоз беднее совхоза. Спиридону все равно, куда гнать коров, но спор распалил его, и он в сердцах сказал загребущему племяннику:
— Ты бы все захапал, как твой отец, порода такая чертова!
— Есауловская порода! — ответил Митька.
— Язык у тебя длинный, артист! Есауловы разные! А ты хам бешеный! И пуля такого дурака не взяла!
Председатель колхоза начал митинг. Более ста коров, пятнадцать пар рабочих быков, три бугая, десять коней — целое богатство для разоренного хозяйства.
— Девять коней! — поправил Игнат, его жеребец не колхозный, а лесничества.
Люди выступали и выступали — накипело за время оккупации. Подвиг семерки вырастал с каждым оратором. В довершение всего полковник показал народу немецкий, снятый с Эльбруса флаг.
И вот они, хмурясь, пожали руки. Игнат вернется в леса — отбирать топоры и веревки у баб и ребятишек, которых холод погонит за дровами. Крастерра станет секретарем горкома комсомола. Дмитрий, Нюся, Люба уже дома, в колхозе. Иван определится кучером в стансовет. Спиридон Васильевич доложится, почему не в тюрьме, и начнет последний, спокойный этап жизни. Каждому дадут по корове — Игнат и Крастерра откажутся, а Спиридону и персональную пенсию как почетному колхознику. Всех их наградят орденами и медалями — Славы, «Партизан Великой Отечественной войны» и «За оборону Кавказа». Потом все получат «За победу над Германией». Было восстановлено звание георгиевского кавалера — и Спиридон носил еще четыре креста, добытых в первую войну и чудом сбереженных женой. Немецкие кресты таскал в кармане.
За обилие наград Спиридона Васильевича до конца жизни будут называть полковником.
Ну, вот и весь рассказ о казаках нашей станицы. Но когда я останавливался здесь, меня просили продолжить, что было дальше, интересуясь и казачьей стариной; уже позолоченной временем.
«Я пил — и думою сердечной Во дни минувшие летал, И горе жизни скоротечной, И сны любви воспоминал»[21].
П р е д а н ь я с т а р и н ы г л у б о к о й,
элегий песенный полет,
я помнил вас, хранил до срока,
и час пробил — как мой пробьет:
все уплатив по звездным ссудам,
что брал, молясь одной звезде,
хочу уйти пустым сосудом,
оставив зерна в борозде.
Так оставляли мои предки
в земле родной и честь, и прах,
когда станицы были редки
в суровых, словно смерть, горах —
у медных скал, в лесах зеленых,
среди лазоревых лужков…
Немало шкур сползло соленых
с ладоней пришлых мужиков.
Пригнали нас с раздольной Волги
к порогу ада — на Кавказ.
Болота, кручи, змеи, волки
да в небесах Эльбрус-алмаз.
Боролись. Гибли. Обживались.
Станицу строили в глуши.
Вокруг станицы волновались
шумящим морем камыши.
Из камышей вставало Солнце.
А также с визгом и л ь а л л а х
из камышей летели горцы
на злых и тонких скакунах —
на русский стан, дать русским сдачи,
арканить баб, бить наповал…
Передовой пикет казачий
сигнальный выстрел подавал.
И, резво покидая степь,
бегут мужички вязкой тиной —
с детьми, узлами и скотиной —
во храм, где на воротах цепь.
Бегут с недопеченным хлебом,
недоварив в котлах обед.
И поп мужик служил молебен
о даровании побед.
И бабий крик разноголосый
мял мощный колокола гуд.
А мужики, бросая косы,
на горцев с пиками идут.
Так стал переселенец сельский,
когда стояли биваком,
сын Старицких, мужик расейский,
заядлым терским казаком.
Теперь он не подвластный мерин:
терпи — и будешь атаман.
Тогда казак себе отмерил
две балки, рощу и лиман.
Зажил уверенно и мерно.
Как тесно стало им в избе
с подругой лет, Маланьей верной,
он хату выстроил себе,
с весны ломая синий камень.
Темна светелка и тиха,
мол, не красна хата углами,
а пирогами. Петуха
и кошку первыми — обычай —
пустили в хате походить.
Явился поп в святом обличье,
кадилом дымным стал кадить.
Чтоб черт в дому не строил козней,
чтоб был всегда в печи пирог,
Парфен, подвыпивший и грозный,
прибил подкову на порог.
А домовой сам поселился в трубе
и вьюшками гремел.
Хозяин дома веселился —
рубли в загашнике имел.
И жбан ведерный чистой водки
был выставлен крапивы злей.
И пели песенные глотки,
и пили до зеленых змей.
Парфен был малый со смекалкой.
Открыв лавчонку за углом,
он надпись озарил мигалкой:
«Торговый и питейный дом».
Он мазал деревянным маслом
копну заржавленных волос.
И, башлыком покрывшись красным,
ходил на сход, как повелось.
Вставал чуть свет. От ранней рани
трудился день. По вечерам
ходил к любовнице как в баню,
а в баню — словно в божий храм.
С крестом на шее, по субботам,
велев поставить самовар,
он сто пудов — мякину с потом
водой подкумскою смывал.
И из предбанника с разбега,
в чем мать родная родила,
катался он в сугробах снега,
как конь, порвавший удила.
Потом к столу. В дурманной лени,
смеясь, щипать за спины снох,
пить чай-китай до отупленья
и спать, не чуя задних ног.
Считал он: дочки сын полезней:
мол, сын не из дому, а в дом.
Лечился он от всех болезней
молитвой, чаркой и трудом.
Бывало, столб спиной разломит
иль закружится голова —
идет грести валы соломы,
плести плетни, колоть дрова…
Чекмень Парфена не лицован.
Парфен умел читать Псалтырь.
Задорно пел стихи Кольцова,
как шел с косой в степную ширь.
Давал шлепки Гаврюшке, Машке,
когда под вечер — «Тише ешь!» —
хлебали, все из общей чашки
по старшинству густой кулеш.
Стояла в бочке арака.
Ночами шли сюда с посудой.
Давал и в долг — не дуракам:
его спаси, а он осудит.
Когда метель гудит по трубам,
замок навесив на корчму,
под кисло пахнущим тулупом
ночами думал: что к чему.
Он жил, считай, во время оно,
у бога милостей моля,
слуга отечества и трона
и враг мюридов Шамиля.
Супруга верная Маланья,
рога крутившая быкам,
когда прошла пора пыланья,
как стог, разлезлась по бокам
и мужа стала звать «медведь мой».
Еще с российского села
полночной, чернокнижной ведьмой
за щучью извороть слыла.
Забот и дел немало разных.
Пахала, сеяла она.
Носила восемь юбок в праздник,
да так, чтоб каждая видна.
С ружьем в телеге в поле жала —
умела и кинжал держать —
и тут же под копной рожала
и продолжала жито жать.
В руках держала мужа цепко:
гулять гуляй, но не блуди.
Парфен пустил по пузу цепку.
Часы как орден на груди.
В Подкумке век бежит вода.
Текут года. Летят года.
Всю жизнь мечтал сходить Парфен
в Ерусалим, к горе Афон.
Но накопил под старость гривен,
слепил кувшин, в огне обжег.
Со звоном красномедный ливень
пролился в глиняный горшок.
Догляда требовали лавка
и самогонный инструмент.
А там, поди, у г р о б а давка —
в Ерусалим все не момент.
Имел коней, детей и дроги.
Осьмидесяти с лишним лет
он при достатке умер в боге,
пропев духовный стих-куплет.
Он загодя себе могильный
отмерил дом перед концом.
Каменотес рукою пыльной
на камне начертал резцом:
«Покойся, раб, и жди восстанья,
для вековечного блистанья,
при трубах Страшного суда».
И камень приволок сюда,
где нет забот, где сладок сон,
где спит мой дед, где счастлив он.
И тем гранитом привалили
Парфена утлую ладью.
И все покойника хвалили —
и поминальную кутью.
Гаврил Парфенов, парень бравый,
от панихиды по отце
шалил по балкам и дубравам
на офицерском жеребце —
от юцких балок до Кичмалки.
Довольно скоро он пропил
отцову лавку, рощу, балки,
сам и копейки не скопил.
Дух рыцарства возобладал
над духом свечек, дегтя, пота.
Он под чихирней в дни работы
философически лежал.
Ружье кременка, ветра мчанье,
звон шашек, на тропинке кровь…
А утром во дворе мычанье
чужих недоеных коров.
И горский переняв обычай,
чтоб меньше было в нем примет,
сменил Гаврил азям мужичий
на карачаевский бешмет.
Вся жизнь его в парадном треске
и в синий дым душа пьяна.
На фронте не погиб турецком,
так околел бы от вина —
неделю сотней всей гуляли,
проспиртовали весь аул.
Вернулся в золоте регалий,
за храбрость чин подъесаул.
Ковров, подушек, оттоманок
привез из Турции герой.
Он был помощник атамана
и жил все там же под горой.
Вмешался бес: уже не лавку —
пропил станичную печать,
петровский рубль. Ему отставку,
велев о сем стыде молчать,
он офицер ведь, б л а г о р о д ь е!
Но час пришел попутал враг:
иль утопился в половодье,
или сорвался в буерак.
Преданье есть еще плачевней:
за горечь давнюю обид
в отцовской пропитой харчевне
под руку пьяную убит.
Есть слух еще: отравлен ядом —
полтавским бешеным вином…
Положен он с папашей рядом,
под тем надгробьем, и на нем
начертано косы обломком
на память вечную двоим:
«Гаврило сын, пример потомкам,
почил с родителем своим».
И гроб его в качаньях мерных
несли четыре казака,
четыре сослуживца верных
Его величества полка.
Сан атаман — сражались вместе —
сняв шапку, пред толпою рек:
«Не знаю, как он был в семействе,
одно — был точный человек
колоть ли, резать басурмана,
иль угонять от них гурты.
Прошел, как черт, без талисмана
все азиатские порты».
И все печальные с кладбища
вернулись на помин души.
Дымилась под раиной пища,
за кувшином — раки кувшин.
Светила полная луна.
И чара пенилась полна.
Как ветеран старинных сеч,
чье тело все сплошная рана,
тут атаман продолжил речь,
умяв за друга полбарана:
«Конечно, он, Парфеныч, пил,
но и награды, не копил,
он с горя первого Егория
в Азовской крепости пропил.
И снова в бои. И так все годы —
костры, дозоры и походы.
Ворвался первым в Букарест —
опять и Бант ему и Крест.
За жизнь сточил две славных гурды».
Еще сказал, жуя шашлык:
«Запомнили жиды и курды
его малиновый башлык»…
Развеялась та жизнь, как дым.
Пора вернуться нам к живым.
Пока гадали, как жить дальше, наступила ранняя февральская весна. Таял снег, чернели глинистые рвы, припекало рабочее солнце, обнажая раны многострадальной земли — окопы, могилы, воронки. Еще хрустели под ногами гильзы, осколки, стаканы снарядов. Время от времени над домами взметывался взрыв, люди с ужасом сбегались к трупам, чаще всего детским, с черными, обуглившимися лицами, вырванными животами, руками и ногами, повисшими на деревьях или проводах, — продолжали действовать гостинцы дедушки Круппа: запалы, гранаты, минные взрыватели.