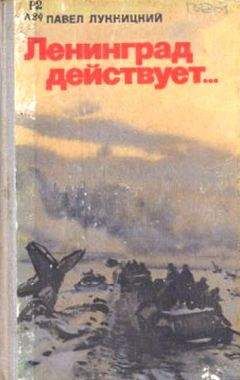Я прошу извинения: вы не можете, конечно, знать. Я не такой. Это звучит странно теперь, если я скажу, что я в Будапеште многим сотням евреев спас жизнь[70]. Много примеров также и в Пскове, которые я не хочу приводить, так как вы можете подумать, что я что-то хочу украсть. Я ничего не хочу украсть.
Я принудительно должен был участвовать, но я не фашист и не жесток. Я только солдат. Это есть моя большая ошибка, я сознаю; в сорок третьем году я должен был повиноваться и требовать повиновения. Вам не должно казаться удивительным, что для меня послушание и выполнение приказов было необходимостью. Это было необходимостью во всей Германии, и не только особенно в системе Гитлера, а вырабатывалось очень многие столетия. Вам это непонятно, так как у вас совершенно другое мировоззрение. Ход мышления у вас совсем иной.
Для нас подчинение и выполнение приказа есть дисциплина и само собой подразумеваемая вещь. Мы не должны рассуждать.
Вы имеете то преимущество, что у вас есть законы, а у нас говорят: «Фюрер приказывает, и мы следуем». Я вырос в таком мировоззрении, меня воспитали так, что я жертва этой системы. Единственно в чем заключается моя вина — что я был назначен в Псков, с его совершенно своеобразной обстановкой, с тем, что было сделано там моими предшественниками. Это неблагоприятно сказывается на мне теперь. Еще раз хочу подчеркнуть: кроме меня была еще эсэсовская комендатура, равноправная, а не подчиненная, также лагерь для военнопленных не был мне подчинен. Было много разных других и чисто военных дел, так что времени не хватало бы на то, в чем меня обвиняют.
Теперь подумайте: как я воспринимал пропаганду в Пскове? Как и все немцы, заблуждался в пропаганде, которая затуманивает, которая превращала людей в дурачков. Иначе было бы немыслимо, чтоб восьмидесятимиллионный народ следовал бы за нею. Она была демонической, эта пропаганда, верили в то, что проповедовалось в кино, на всех столбах, днем и ночью. Мы учили в собраниях партийные книги. Нам было сказано: Россия наготове, чтобы напасть на нас всей своей военной мощью. И это не будет нападением с нашей стороны, если мы предупредим удар, это будет оборона.
А войска пошли в Россию!.. Я сам только в сорок третьем году прибыл в Россию, как вам известно, но я с таким же суждением, как все солдаты, пришел в Россию. Не было никакой возможности иметь ясное представление о России. А только то, что немцы должны напасть, что детей и женщин всех угонят, Германию сделают пустыней, если русские ее победят. Только так можно объяснить это. «Россия, — нам сказали, — это колосс на тонких ногах». Это есть принудительное соединение государством разных народов, которые только ждут момента, чтоб свергнуть колосса и освободить себя. Сегодня я совершенно в другом виде знаю все, я использовал время, много читал, видел, слышал. Я знаю, что Россия есть союз свыше двухсот национальностей, совершенно свободно соединенных. Никакой речи не может быть о принудительном объединении. Я знаю, что Советский Союз лучшую конституцию в мире имеет! (Смех в зале.) Я знаю сегодняшнюю Россию: колоссальные человеческие резервы, бесчисленные ископаемые богатства, колоссальные пространства, три климатические зоны. Я был поражен, как много молодых людей, которые контрастируют своим здоровьем с истекающей кровью немецкой молодежью.
Контраст между той Россией, которую нам рисовали, и которую я узнал. Без конца поражаюсь. Таким образом, мне сегодня особенно ясно сознание колоссального преступления — напасть на такое исполинское государство!
Невозможно это исполинское государство с неисчерпаемыми резервами победить. Когда я прибыл в Псков, я еще этого не знал. Был под таким впечатлением, какое осталось от пропаганды, одурявшей нас, смешанной с повреждениями от спущенных бомб, которыми были подвержены разрушению города и промышленные центры Германии. Тысячи женщин были жертвами войны, ежедневно двадцать — тридцать тысяч! Это было то мое состояние, которое я испытывал, когда я прибыл в Псков. В таком состоянии угон советского населения, который уже давно начался, казался мне не так уж страшен, как это кажется теперь вам. Прошу это учесть. Как для солдата — не были преступлением или не казались такими эти приказы, которые препровождались дальше. Да и не было необходимости при угоне прибегать к истязаниям и убийствам. Где это случилось, там ответственны за это местные офицеры и солдаты, поскольку не было у них приказа, как это видно из всего хода следствия. Я никогда не давал таких приказов. Я с отвращением отворачиваюсь от этих вещей. Война жестокая была (в особенности партизанская — особенная) с двух сторон. Все обострилось. Это объясняется личностью Гитлера. Со стороны партизан — они действовали все ожесточеннее! Я же не принимал участия в борьбе с партизанами, это было делом дивизий, находившихся в моей области.
Подхожу к концу. Если суд, учитывая все эти обстоятельства, верит, что я достоин смерти, я смело умру. Если моя смерть служит для того, чтоб осуществить мое желание — примирение двух сторон, германского и русского народов… Если мой народ восстановится, то только с помощью России он может это сделать. Если этому послужит моя смерть, то я с радостью умру…»
…А не надеется ли, произнеся эту речь, Ремлингер, что его все же помилуют?
Последнее слово Зоненфельда:
«Государственный обвинитель и судьи! Четыре года назад я стоял перед германским судом. Сегодня стою перед русским судом. Там я был наказан за невыполнение приказа. Здесь я приговорен к смертной казни за выполнение приказа. Там я был военным преступником, здесь я — военный преступник. Там я был виноват сам, здесь я виновен из-за других. Для меня, государственный обвинитель, было бы легко, как солдату, сказать, что я, как солдат, выполнял приказы; я нес тяжесть солдата, как нес ее каждый солдат, и поэтому я должен был повиноваться беспрекословно, бессознательно и, как солдат, обязан был выполнять каждый приказ — хороший или плохой, правильный или неправильный, — ведь солдат не имеет права думать, за него думают офицеры и фюрер, они ответственны за эти приказы… Но тем не менее не хочу здесь с себя снимать вину, потому что не хочу прятаться за спину тех, кто мне приказывал.
Нет! Эту возможность я предоставляю генералам и Герингу, которые прячутся за спину Гитлера. Я хочу только кратко обрисовать путь, на котором я, как немец, был виноват перед немецким народом — там, где я был виноват лично, сам. И генерал, который здесь стоит, виноват тоже, виноват больше.
Если генерал Ремлингер думает, что я боюсь смерти, он ошибается. Он должен знать, и все другие могли бы знать, что я мог бы умело защищать свою жизнь. Но я презираю этот путь и я подтверждаю, что показания, которые я давал раньше, — правдивы. Я обвиняемый, а не обвинитель, и нет никакого интереса для меня считаться с Ремлингером. Я иду одной дорогой с ним, но иду дорогой правды. Кто виноват, кто отвечает? Мы? Мы, сидящие здесь на скамье подсудимых? Нет! Виноват немецкий народ? Тоже нет! Виноваты эти преступники, генералы, которые отдавали приказы, немецкие фашисты, потому что они знали, для чего отдают приказы! Мы этого не знали. Как могло получиться, что немецкий народ должен был выполнять эти ужасные приказы?
Фашизм это не продукт немецкого народа, он не родился с ним. Нет!
Фашизм навязан немецкому народу. Кто навязал немецкому народу фашизм?
Немецкий капитализм! Вот это преступники нынешней войны. Настоящие! И это они сделали нас жертвами этой войны. Почему немецкий народ последовал фашизму? Уже в восемнадцатом году немецкий капитализм начинал готовиться к этой войне. Германия проиграла ту войну. Народ бесцельно погибал в ту войну.
В народе существовало тридцать — сорок партий, и немецкие капиталисты стремились, чтоб эти партии слились в одну. Народ не допустил этого.
Немецкий капитализм сделал все, чтобы демократическая партия Германии стала самой преступной партией Германии. Тогда уже началось взращивание этой войны. Потому что все, что там случилось, в Германии, во всем обвинялась коммунистическая партия. Слово «коммунист» было страшилищем для каждого ребенка. С того времени началось преследование коммунистов. Капитализм тогда уже умел находить способы это делать, когда только взращивалась гитлеровская партия. Капитализм имел деньги, поэтому он берег и растил гитлеровскую партию, а другие партии не имели поддержки, и потому Гитлер выиграл на выборах. Пароль фашистов был: «Не будет больше войны, вечный мир!» И немецкий народ последовал этому. Несмотря на частые смены правительств, эта мысль заставляла немецкий народ следовать за призывами гитлеровской партии.
Тысяча девятьсот тридцать третий год: капитализм выступил открыто. Все, что фашизму удалось сделать до нашего времени, это мы все увидели. Самое большое, самое основное — пропаганда, — это были деньги капиталистов. Банки были уничтожены, коммунистическая партия тоже. Но слово «коммунизм» не умирало. Это было нужно фашизму, чтоб оправдать эту войну. Потому что немецкий фашизм не говорил, что он победит русский народ, а говорил, что победит коммунизм в России. Это была пропаганда, и это привело к войне.