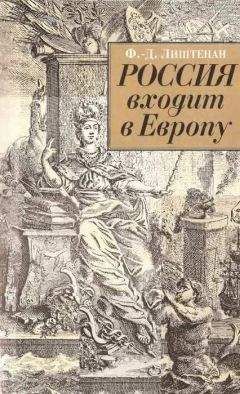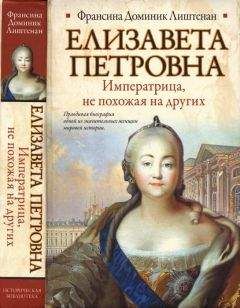Маршрут русского вспомогательного корпуса
Между 1746 и 1748 годами Людовик XV имел в противниках Австрию, Россию, Англию и Нидерланды, а в вынужденных союзниках — боязливого, уставшего от войны короля Пруссии. Другие страны держались в стороне: саксонцы не хотели лишаться поддержки Франции, но в польских делах зависели от России{154}. Швеция, вообще крайне расположенная к Франции, находилась под давлением Дании, полностью преданной России, так что, несмотря на неоднократные заверения в дружеских чувствах, шведы держались крайне осторожно. Оставались турки, только что закончившие большую войну с Персией; по наущению Франции они могли бы продолжить войну с Россией{155}. Однако вскоре выяснилось, что султан Махмуд I желает мира и предпочитает сохранять нейтралитет{156}.[46] Союз между Швецией, Польшей, Турцией и Францией, создание которого начали было обсуждать заинтересованные стороны, не состоялся потому, что никто из предполагаемых союзников Франции не хотел воевать с Россией. Версаль понял замысел Англии: демонстративные действия русской армии должны до такой степени напугать Фридриха, чтобы он «бросил часть войск на защиту своей дражайшей Пруссии» и позволил Австрии и ее союзникам, не опасаясь агрессии со стороны прусского короля, усилить английские войска, сражающиеся против Франции{157}. Выйти из этой переделки можно было только путем мирных переговоров, на победу в битвах надежды не оставалось.
В январе 1748 года 30 000 русских солдат двинулись из Курляндии в направлении Мозеля и Рейна, чтобы разделить враждующие стороны{158}. Шестьдесят галер бросили якорь в балтийских портах{159}. Финкенштейн, как прежде Мардефельд, отказывался верить в то, что русский вспомогательный корпус примет непосредственное участие в боевых действиях. Новый посланник проницательно анализировал обстановку внутри страны, однако истинной цели русского вторжения — желания России оставить за собой одну из ключевых ролей в европейской политике — он не понял и потому ввел в заблуждение своего повелителя. Финкенштейн рассуждал так: в России неурожай, деревни истощены, рекрутский набор производится в ущерб помещикам и церкви — главным владельцам крепостных. Значит, морским державам придется заплатить за союз с Россией очень и очень дорого. Неужели они решат, что игра стоит свеч? Неужели сумеют усмирить гордыню Елизаветы и развеять сомнения духовенства, оказывающего на благочестивую императрицу большое влияние? Транспортировка войск из Петербурга в Любек морским путем представлялась невозможной и технически, и из-за климата; проход же их через Пруссию неминуемо создал бы новый casus foederis. Оставалось направить их через Польшу либо через австрийскую часть Силезии, однако такой маршрут потребовал бы слишком много времени{160}. Несмотря на многочисленные заверения в том, что прусской территории ничто не угрожает, Фридрих засыпал своего представителя в Петербурге тревожными письмами, полными юридических доводов: он знал наверняка, что русская цензура познакомит с его жалобами и мрачными прогнозами канцлера Бестужева[47]. Особенно часто повторял Фридрих одно утверждение: со времен подписания Дрезденского договора Пруссия более не принадлежит к числу воюющих держав.
В феврале 1748 года Финкенштейн сообщил королю о составе вспомогательного корпуса под командованием Репнина и Претлака{161} — того самого, которому предстояло сражаться с французами: двадцать три пехотных полка, четыре сотни конных гренадеров, четыре сотни донских казаков, включая прислугу, мастеровых и конюхов. Общая их численность, по мнению Финкенштейна, составляла от 31 600 до 37 500 человек, плюс лифляндский резервный корпус из 6 000 человек{162}.
Сен-Совёр, французский консул в Петербурге, несколько месяцев спустя назвал более реалистические цифры: 27 600 человек пехоты и 3 000 драгун или казаков; именно это войско продвигалось по территории Польши. Разница в количественных оценках русского вспомогательного корпуса явилась причиной очередного раздора между Версалем и Потсдамом. Пюизьё полагал, что Фридрих лишний раз продемонстрировал свой оппортунизм: преувеличивая численность русского войска, открыто проявляя свой страх, он в конце концов льстил презренным московитам. Хотя Ле Шамбрье рассыпался в извинениях и объяснениях, упреки, высказанные французским кабинетом, были отнюдь не беспочвенны. В тот самый момент, когда Франция собралась с силами и порвала дипломатические отношения с Россией, прусский король старался выторговать себе право начать переговоры и упросить Россию пустить свои войска в обход прусской территории{163}. На всякий случай Фридрих вновь увеличил бюджет своего посольства в Петербурге; посланник его, человек светский, посредством подарков и приглашений мог занять место, которое прежде занимал при дворе Дальон, и тем вновь сблизить Фридриха с его старой союзницей — Россией…
Подготовка Ахенского мира
Отставка маркиза д'Аржансона (январь 1747 года), главного инициатора официальной антирусской политики Франции, позволила изменить направленность французской дипломатии; новый министр иностранных дел, Пюизьё, озабоченный состоянием королевской казны, решил, что в Европе Франции следует заключить мир, а борьбу с противником продолжить в Новом Свете{164}. Георг II, а затем Мария-Терезия не возражали. Русские и пруссаки благословляли судьбу. Мардефельд, сохранявший тесные связи с петербургскими друзьями, получил в самом начале предварительных переговоров о заключении мира письмо от Лестока, лейб-медика Елизаветы, в котором тот описывал обстановку в императорском дворце. По его словам, здесь все были в высшей степени довольны удачным началом переговоров.
Елизавета не скрывала своей радости в связи с близящимся окончанием войны. И только «иные особы» ходили по дворцу «как громом пораженные»; от статьи договора, по которой прусскому королю гарантировалась Силезия, у канцлера Бестужева лицо «вытянулось» едва ли не целый аршин!{165} Ход переговоров противоречил всей его политике, он ощущал себя в тупике. Канцлер нуждался в деньгах, двор также, получение субсидий сделалось жизненно важным. Вскоре Финкенштейн в крайне оптимистическом тоне сообщил Фридриху о трудностях, с которыми столкнулся русский вспомогательный корпус: из-за непогоды, болезней и дезертирства ряды его сильно поредели{166}. Цель всех этих перемещений была «совершенно чужда русскому народу»; участие в войне отдаляло правителей от нации{167}. Оттого, что вспомогательный корпус выступил с опозданием, а двигался очень медленно, австро-английские «благодетели», ощущая несоразмерность сумм, которые они тратят, получаемому результату, усомнились в необходимости продолжать выплаты{168}. Россия должна была сохранять свое положение на международной арене, не терять лица, в то время как русские войска продолжали движение вперед, сделавшееся совершенно бесполезным. Бестужев сходил с ума; он судорожно искал способы оправдать свою политику в глазах императрицы, которая так долго отказывалась от участия в войне. Самые доверчивые из фаворитов и придворных начинали замечать, что канцлер «чересчур бахвалится»{169}. Тогда Бестужев выдумал прекрасную отговорку: не что иное, как выступление русского корпуса ускорило начало мирных переговоров. Ссылаясь на старые письма Людовика XV и Марии-Терезии, в которых те просили Елизавету быть посредницей в их конфликте, канцлер убеждал свою повелительницу в том, что мир в Европе зависит исключительно от нее{170}.
В надежде завоевать право на участие в ахенских переговорах (последний имевшийся у него козырь!) Бестужев предоставил русскому корпусу продолжать свой путь; Головкин, русский посол в Гааге, получил приказ в любой момент быть готовым отправиться в Ахен.
В Берлине у министра иностранных дел Подевильса обнаружился новый повод для тревог: ситуация менялась так стремительно, что мирный договор (пусть даже и с пунктом касательно Силезии) мог быть заключен без участия прусских представителей или хотя бы наблюдателей. Нетерпеливость французов раздражала прусского министра, и он известил об этом Валори. Версаль не замедлил ответить (впрочем, достаточно мягко): разве при подписании Дрезденского договора Фридрих не забыл посоветоваться со своими союзниками-французами и тем не подал им «превосходный пример» поспешности?{171} Таким образом Фридриху вежливо намекнули, что ему лучше всего держаться в стороне от переговоров, главные участники которых — Франция и Англия, державы, ведшие между собою спор за господство в Америке. Австриец Кауниц тщетно пытался добиться того, чтобы в обсуждении принял участие и Головкин; ведь петербургская конвенция специально оговаривала присутствие русского посланника на будущих переговорах{172}. Со своей стороны Финкенштейн настоятельно советовал своему повелителю сделать все возможное для того, чтобы исключить Россию из переговоров; следовало отомстить русским за то, что они «предали» интересы Пруссии. Отказать русским в участии в ахенских переговоров значило нанести дочери Петра Великого «страшнейшее из оскорблений»; это значило показать Европе все различие между Россией — нацией варварской, второстепенной, и Пруссией, которая хотя и не участвует в подписании ахенского мира, в согласии с одной из его статей законным образом оставляет за собой Силезию{173}. Для Елизаветы то был бы страшный удар, который, возможно, заставил бы ее наконец расстаться с Бестужевым и понять, насколько сильно она впала в зависимость от Англии. Прусские политики знали, что хотя Георг II и заплатил России причитавшиеся по Петербургской конвенции 100 000 фунтов стерлингов, русская казна все равно пуста; возвращение же вспомогательного корпуса на родину должно было лишь ускорить обнищание крестьянского населения, которое с трудом удовлетворяло собственные скромные нужды и едва ли было способно прокормить еще и солдат. В результате Европа наконец обрела бы покой.