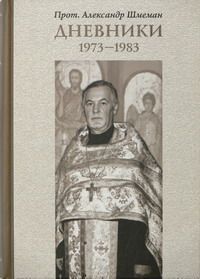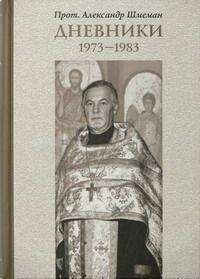Книга о Липмане. Близость его, молодого, к Вильсону. Страстная вера в "мир всего мира", интеллигентская идейная суета, вера в себя как в "администратора" мира и в нем человеческого счастья. Иллюзорный мир, вечная вера, что мы накануне какого-то решительного "разрешения всех проблем"… Но сколько крови с тех пор – и, в значительной мере, как раз от этих мечтаний,
1 бега трусцой (англ.).
2 новость (англ.).
3 Роланд Стил "Уолтер Липман и американское столетие" (англ.).
4 Взлеты и падения (фр.).
5 "отчуждение" (англ.}.
6 я фланер, праздношатающийся (фр.).
561
от этой веры в иллюзию. Так ясно, что в них – корни и Ленина, и Сталина, и Гитлера, и трагедии "третьего мира", всей той каши, в которой мы теперь барахтаемся. Но этого не признают, в этом не сознаются. И сейчас так же суетятся новые липманы и новые вильсоны.
Как ни раздражительна возня с заложниками своей сентиментальностью, неизбежным претворением в "big show", в зрелище для толпы, остается во всех смыслах замечательный факт: никто из них не сдался, не вел себя недостойно. И это свидетельствует о какой-то подспудной силе homo americanus.
Вторник, 27 января 1981
Думал о том, почему мне так трудно дается богословское "изложение", почему с мученьем рождается каждая фраза. Понял: потому что язык богословия по самой природе своей есть язык символический . От этого языка отреклось "научное" богословие в убеждении, что символ можно – и не можно, а должно – разъяснить при помощи несимволического, дискурсивного языка. В этом сущность и первая ошибка всяческой схоластики. На деле, однако, этот язык не может этого сделать и потому it explains the symbol away1 . Объяснение не объясняет, а подменяет вопрос, чтобы затем ответить на него при помощи логических категорий. Утверждение "Аз есмь хлеб сошедый с небеси" при таком объяснении становится "метафорой": "здесь-де Христос уподобляет Себя…" и т.д. Современное богословие есть прежде всего искание языка . И это не случайно. Но в том ошибка или тупик этого искания, что оно оторвано от той реальности , которую язык должен передать, объяснить, но прежде всего – явить . Получается дурная бесконечность – искание языка для объяснения языка, а не реальности, хранимой верой, укорененной в Церкви.
Вчера ночью буквально с ужасом читал главы о Версальском мире в книге о Липмане. Почему в XX веке Европа взяла да и покончила самоубийством? И сделала это при помощи Америки (Вильсон). Вильсон привез с собой в Париж делегацию в 1200 человек! И все дружно сели в лужу. Ни одного мудрого решения. С одной стороны, жажда мести и просто жадность (Англия и Франция), а с другой – интеллигентская слепота американских "идеалистов". Потом подождали двадцать лет – и снова сели в лужу. И, однако, миром правят люди все того же типа, с той же безнадежной неспособностью понимать.
1 отделывается поверхностным объяснением символа, изображает его так, как будто никакого символа нет (англ.).
Тетрадь VII
ФЕВРАЛЬ 1981 – ИЮНЬ 1982
Воскресенье, 1 февраля 1981
Кончил книгу о Липмане, которая навела меня на всевозможные размышления и вообще взволновала. У меня чувство, что я как-то "породнился" с ним, ибо в книге шестьсот страниц и я несколько дней как бы жил с нею, и это значит – с Липманом. Автор (Стил) пишет о его смерти: "…never did he speak of prayer, or of God, or of afterlife… To the end he was like a mature man"1 . A между тем чем больше я вчитывался, тем сильнее чувствовал, что драма Липмана (как и каждого человека) – религиозная, что всю жизнь он подменял – бессознательно, инстинктивно – Бога чем-то другим, что его не удовлетворяло. "Людям нужна религия" – это его слова.
Понедельник, 2 февраля 1981
Сретение. Возвращение в семинарию. Литургия.
Вернулись из Балтимора в субботу днем. Льяне плохо, отравление антибиотиками, синус, отвратительное самочувствие. Вчера весь день около нее.
Липман: национализм сильнее и постояннее идеологии. Я думаю, в этом он прав. Далее: его постепенное разочарование в демократии, во всяческом культе "масс"…
Вчера, кончив Липмана, читал в новом номере "Континента" стихи Бродского: "Эклога IV (зимняя)". Не понимаю, не слышу, не чувствую. Ощущаю как набор слов, наверное, с очень тонкой игрой всяческих аллитераций. Но по мне это – утонченность ради утонченности. Его ранние стихи (то есть более ранние) мне очень нравились. "Остановка в пустыне", "Сретение", "На смерть Элиота", "На разрушение греческого храма в Ленинграде" и т.д. Может быть, он – одна из жертв успеха?
Темный дождливый день. Л. лежит наверху. В доме тихо. И ужасно не хочется – после этих двух недель в "нигде" (отель, больница, Балтимор) – возвращаться в "деловую жизнь". Уже сегодня, после Литургии, она ринулась на меня со всех сторон…
Вторник, 17 февраля 1981
Вот и февраль перевалил за половину. Время бежит, и ничего не успеваешь… Три дня в Бостоне – на retreat, очень удачном, но и смертельно утоми-
1 "…никогда не говорил он ни о молитве, ни о Боге, ни о загробной жизни. До конца он оставался зрелым человеком" (англ.).
тельном. 132-й номер "Вестника". Tout compte fait1 – доволен своим "Таинством воспоминания", а также некрологом Н.М. Зернова (по этому поводу получил взволнованно-благодарственное письмо от его жены Милицы).
"Вестник" в общем удачный, но не без "никитизмов" – он открывается акафистами некоего о. Г. Петрова (давно погибшего). Я считаю саму "формулу" акафиста искусственной и неудачной и не очень понимаю причин их опубликования. Письма (двадцатых годов) 3. Гиппиус и Е.Л. Лопатиной. По-моему, давно пора понять легкомыслие всех этих ожиданий "третьего завета", фатальную несерьезность всей "гиппиус-мережковщины".
Среда, 25 февраля 1981
Кризис в Spence. Воспринимаю его почти как Божье указание, чтобы Л. бросила этот каторжный труд. Сам кризис, однако, поражает нас обоих своей бессмысленностью и если что являет, то поразительную незащищенность в Америке того, кто не принадлежит к денежному establishment2 . Жалоба – мелкая, глупая, нестоящая – трех родителей, то есть "клиентов" (из тысячи!), и начинается паника и заодно сведение всех мелких счетов… Чувство отвращения от всего этого и настоящего восхищения мужеством и терпением Л., "избитой" операцией, слабостью, мелочностью друзей и, несмотря на это, остающейся настоящей "ванькой-встанькой". Сегодня – решительное заседание.
В связи со смертью Н.Я.Мандельштам перечитываю ее "Вторую книгу". Удивительный человек, удивительное ясновидение в главном. Как поразительно ее убеждение в том, что духовная "двусмысленность" символизма сделала их [поэтов-символистов] слабыми в распознании большевизма, а духовно трезвый акмеизм Ахматовой, Гумилева и Мандельштама – сделал их стойкими. Думая о Блоке, Белом, Брюсове – прихожу к выводу, что – в основном – анализ этот верный.
Скоропостижная смерть в Париже 12 февраля Репнина. В моей жизни он занимал особое и, я убежден, для других необъяснимое место. Он неотрывен от того таинственного праздника, которым были для меня, я уверен – для нас, пять лет корпуса в Villiers le Bel. 1930-1935, то есть годы между девятым и четырнадцатым годами моей жизни. В корпусе была священная мифология России, служения ей, ее спасения. Корпус был не для нас, не для нашей "подготовки к жизни", не для просто образования, учебы, воспитания. Он был – для России, служение ей. И потому что нам это внушалось денно и нощно нашими воспитателями, потому что вся наша ежедневная жизнь была насквозь пронизана символизмом этого служения, его "священностью", потому что цель и содержание нашей жизни были предельно ясны, но при этом и предельно высоки: служить России и, конечно, умереть за нее ("И смерть дорога нам, как крест на груди"3 ), потому что, сами того не сознавая, мы жили в некоем грозном, сияющем и безнадежном мире, – эта атмосфера определяла в каком-то подсознании и наши личные отно-
1 Приняв все во внимание (фр.).
2 истеблишменту, влиятельным кругам (англ.).
3 Слова из марша Семеновского полка.
шения, делала их "романтическими". Не то что мы воспринимали дружбу как "служение России", но она – повторяю: подсознательно – делала друга, товарища, "кадета" больше чем "copain"1 . Иными словами, кроме всех обычных мальчишеских, детских измерений эта дружба имела еще и иное, высшее измерение, жила отсветом той высокой дружбы, на которой – так нас учили – держалась Россия, дружбы освященной, скрепленной на полях сражений смертью друг за друга, смертью вместе , дружбы, в которую наша "кадетская дружба" была посвящением. Дружба по самой своей природе не может быть "безличной". Она воплощается во всей полноте своей – в другом, в друге единственном, таком, дружба с которым жаждет какой-то непонятной абсолютности. Таким другом и был для меня в те, в сущности, немногие [годы], но теперь кажущиеся самым длинным, почти вечным периодом моей жизни, Репнин. Потом, вскоре, из моей реальной жизни он выпал, несмотря на его учение в Богословском институте, встречи и т.д. Он не занимал никакого места в этой реальной жизни, как и я в его жизни. Но память об этой дружбе, неистребимая метка ее на душе остались. И вот – эти встречи в каждый приезд в Париж, вчетвером, впятером (Андрей, Петя Чеснаков, Репа, я, в последние годы – Траскин). Ужинали в ресторане, сидели в кафе, провожали друг друга "до метро". Разговаривали о пустяках, общих интересов было так мало. Репнин жил со своей душевнобольной женой на каком-то чердаке на Ilе St. Louis, работал где-то ничтожным gratte-papier2 – ив эту свою "реальную" жизнь нас не пускал, хотя мы уже знали, что эта мелкобуржуазная жизнь на деле светила подлинным героизмом, святостью: ежедневной, ежечасной заботой о больной жене. Встречались и расходились, словно исполнив некий самоочевидный, хотя словами и неопределимый долг. Теперь, однако, я чувствую, что к этим встречам применимы слова любимого мною стихотворения Адамовича: