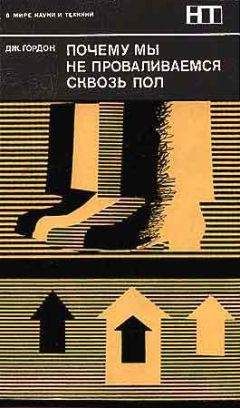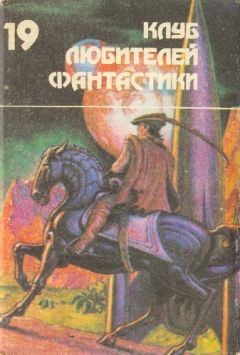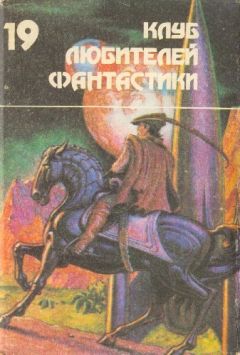в условиях растворения ленинского ядра ВКП(б) в притоке после 1925 г. («ленинский призыв») массы новых членов, для многих из которых партийность означала привилегированность, вступление в партийные ряды – гарантию карьерного продвижения. А тезисы о партийном руководстве государством видятся предостережением об угрозе партноменклатуры и о становлении в СССР диктатуры чиновников.
Такое предположение обретает силу, если учесть, что Яков Владимирович вскоре примкнул к Союзу марксистов-ленинцев [226], в программных документах которого, составленных М.Н. Рютиным, содержался ряд идентичных положений и главное среди них – стремление укрепить пролетарскую диктатуру, очистив ее от бюрократических извращений [227].
Под этим углом зрения бросается в глаза и слабость общетеоретической базы предполагаемой корректировки политического режима. В статье 1928 г. идея очищения диктатуры больше напоминает заклинание именем Класса, утверждение «классовости» во имя ее спасения! «Всякая классовая диктатура революционного характера предполагает раньше всего полное отсутствие фетишизма правовой формы, подчинение классовой политики непосредственно и исключительно классовой целесообразности … использование основного орудия классового насилия, именно концентрацию всей мощи класса-диктатора в государственном аппарате; притом класса, руководимого партией, которая представляет его отнюдь не формально-демократическим образом; и притом партией, построенной по принципу железного централизма и дисциплины (курсив мой. – А.Г.)» [228].
Никакой гарантии для проведения политики «классовой целесообразности» устранение «формальной демократии» между тем не давало. Наверное, автор чувствовал это, потому и множил в разных сочетаниях «классовое» определение власти, между тем сведение этой классовости к руководству «железно централизованной и дисциплинированной» партии в тех условиях могло означать лишь одно – ликвидацию остатков внутрипартийной демократии.
В своей монографии Старосельский апеллировал к авторитету Ленина, ограничившись минимумом цитирования в отношении правившего вождя. Но отнюдь не обнадеживают его рассуждения о «личной диктатуре» и терроре. В ситуации внедрявшегося культа личности он толковал о «техническом» значении того обстоятельства, управляется ли государство коллегиально или единолично [229].
Как написал Старосельский по поводу носившейся в воздухе при кризисе власти в 1794 г. идеи придания Робеспьеру статуса «главы», или «вождя (un chef)»: «Все это, вообще, маловажно, было-б только само правительство исполнено добродетелями и чуждо личных интересов» [230].
Вот тебе и эсхатология «классовости», если гарантией спасения в последней инстанции оказываются личные качества высших руководителей!
А в преддверии начинавшихся массовых репрессий заставляют задуматься соображения Старосельского, что террор должен подчиняться определенной системе, быть классово «целесообразным» и тогда репрессированных будет меньше, а главное, их не будет среди «своих» [231]. Характерным среди «историков-марксистов» было мнение, что самоистребление якобинцев обусловилось их «мелкобуржуазностью» [232]. Тем самым угроза аналогичного исхода исключалась для пролетарской революции.
Развивая эту мысль, Старосельский доказывал, что в отличие от прогрессивного характера пролетарской диктатуры «мелкобуржуазная диктатура реакционна и экономически безнадежна, поскольку пытается повернуть вспять историческое развитие» [233], а потому террор становится перманентным, порождая «типичную террористическую идеологию», «свирепость которой только усиливается от того, что она классовую борьбу принимает как борьбу с определенными лицами, которые мешают мирному течению общественной жизни по причине злой воли» [234].
Вот какой поворот успела преодолеть мысль поборника революционного террора, буквально за несколько лет, начиная от полемики с Оларом! От превознесения «сознательного» террора, террора, превращающегося в целенаправленную политику, – в обличение «типичной террористической идеологии», «свирепой» по своей природе и отличающейся только степенями этой самой «свирепости».
Что же при таких уточнениях остается от постулированного типологического сближения двух диктатур, кроме революционности и террористичности, которые зачастую выступают у Старосельского синонимами? Этакратизм, вера в государственную власть, убеждение в ее всемогуществе!
При всей неразработанности (следует, конечно, учитывать и ущербность сохранившейся документальной базы) в программных документах Союза марксистов-ленинцев, кроме абсолютизации (и даже «аксиоматизации») значения диктатуры, содержались качественно иные, а то и прямо противоположные положения. Прежде всего идея восстановления внутрипартийной демократии и укрепления связи с массами путем возрождения значения местных советов, самостоятельности профсоюзов, инициативности комсомола.
Террористических призывов не только не было, но, напротив, решительно осуждалась расправа с внутрипартийной оппозицией, а главное, на мой взгляд, была осознана пагубность насилия над крестьянством и осуждена террористическая практика проведения коллективизации с ликвидацией кулачества. Наконец, платформа Союза марксистов-ленинцев и, в первую очередь, взгляды самого Рютина носили пламенно антисталинский характер. Сердцевиной их была идея смещения Сталина и восстановления коллективности партийного руководства.
Что же произошло за несколько лет, предшествовавших сближению Старосельского с Союзом марксистов-ленинцев? Я вижу два обстоятельства: внешним мог стать тяжелый продовольственный кризис как следствие коллективизации. Внутренним – морально-идеологическая проработка («избиение») и административная «чистка» затронули именно «своих», так называемых партийных «середняков», не принадлежавших, подобно Старосельскому и другим «историкам-марксистам» – а также самому Рютину и его ближайшим сподвижникам – ни к одному из «уклонов».
Можно предположить, что взгляды Старосельского эволюционировали в русле выразившихся в создании Союза марксистов-ленинцев настроений старого («ленинского») революционного ядра правящей партии, которое пыталось преградить дорогу диктатуре Сталина в начале 30-х годов и было почти полностью репрессировано спустя несколько лет после XVII съезда (1934), когда была сделана попытка смещения генсека легальным путем.
Вместе с тем, полагаю, что предположение о близости взглядов Старосельского платформе Союза марксистов-ленинцев носит в известной мере гипотетический характер и основано на том, что Старосельский был поименован следственными органами в числе 25 активных членов организации и способствовал распространению ее взглядов и документов [235].
Гораздо существеннее то, что Старосельский ответил на общественные и внутрипартийные настроения, выразившиеся в создании и программе Союза марксистов-ленинцев, подготовкой новой монографии, которую посвятил теме «народоправства».
Старосельский искренне верил в демократические свойства революционной диктатуры и наиболее объемистую часть своих исследований посвятил развитию в ходе революции XVIII века политической самоорганизации масс на низовом уровне, формированию органов «народной диктатуры» в виде обновленного местного самоуправления (секций и коммун), проследил и положительно оценил попытки прямого народоправства. Органы парижских кварталов Старосельский называл «институтами прямого народоправства», а их создание – «наиболее революционной и демократической акцией» в ходе революции [236].
Старосельский начинал работать над исследованием системы «народной диктатуры» и ее предпосылок, вероятно, параллельно с написанием монографии «Проблема якобинской диктатуры». Долинина предположила, что опубликованная книга явилась последней частью всего исследования. У меня другая версия. По замечанию в «Сентиментальном романе» выходит, что уже в 1925 г. Я.В. гордился написанием книги. Другой книги, кроме опубликованной в 1930 г. монографии «Проблема якобинской диктатуры», у Старосельского не было. Стоит предположить, что именно она была написана в середине 20-х. А следовательно, подчеркну, при всех дополнениях и очевидных коррективах воспроизводила замысел, возникший у Я.В. еще на высшей точке веры в советскую диктатуру.
По свидетельству тоже Долининой, Старосельский продолжал работу, регулярно посещая библиотеки во время пребывания в Ленинграде в конце 30-х. Думаю, это и была работа над второй