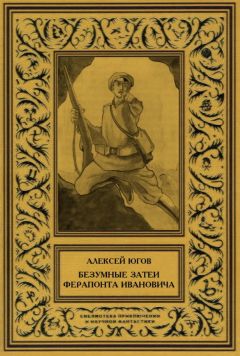Настроение у него в тот час было отличное: всю партию масла - триста пудов - датчане приняли у него по самой высшей цене, да еще и наговорили кучу лестных слов о его уме, деловитости, честности; что он далеко пойдет; что если бы таких людей было побольше в коммерческом мире России, то... И что они охотно будут кредитовать его в счет будущих маслопоставок. "То-то Ольга моя обрадуется!" Улыбаясь при одном только воспоминании о ней, решил, что сперва подшутит: скажет досадливо, что продешевил. А между тем уж заплатил полностью все деньги за великолепный для нее рояль, по случаю, - сам проследил за погрузкою и отправкой. Давняя ее мечта!
Вдруг Арсений Шатров заметил, что впереди, вдоль занесенной снегом улицы и в том же самом направлении, быстро, но неверными шагами, делая зигзаги то вправо, то влево, чуть не к самым воротам дворов, движется какая-то странная фигура: "Пьяный, наверно: вот сунется где-нибудь в сугроб да так у чужих ворот и окоченеет!"
А человек и впрямь худенько был одет: пальтишко, не шуба, шапчонка, сапоги, - добро бы хоть валенки!
Шатров на своем Бурке мог бы скоро догнать его. Но он даже и нарочно попридержал лошадь: захотелось все-таки узнать, что это за человек, пьяный ли и зачем он такие делает зигзаги. Вот подбежал к чьим-то воротам, явно - к чужим; отмахнул калитку, глянул вовнутрь двора, захлопнул и... отбежал. "Что за чертовщина?!"
Шатров ехал за ним в некотором отдалении и с любопытством смотрел на эти его зигзаги.
Вот переулок налево. Человек поспешно кинулся туда и - отпрянул обратно, на улицу. А когда саночки Шатрова поравнялись с тем переулком и Арсений Тихонович глянул налево, в глубь переулка, то ему стало вдруг понятно, почему человек отпрянул: во всю ширь переулка, цепью, ускоренным шагом, с явным намерением выбежать на улицу, пресечь путь и окружить, шли солдаты с винтовками на руку.
А сбоку от них, возле самых дров, шагал какой-то полицейский чин. Вот он выметнул руку в перчатке, указал перстом на человека, выхватил висящий у плеча свисток и пронзительно засвистел. Солдаты побежали. Побежал и полицейский по тротуару, чуть приотставая.
Человек остановился посреди улицы. Он понял, видно, что ему не уйти. Выхватил из кармана револьвер. И, слегка поводя им навстречу солдатам, ждал...
Арсений Шатров понял все: ясно было, что окруженный решил не сдаваться живым. Раздумывать было некогда. Медная пластинка вожжи шлепнула о круп Бурого. Он наддал. Но накоротке рысак не успел еще, однако, развить всю свою бешеную скорость. Саночки неслись прямо на человека.
- Э-эй!..
Человек с револьвером досадливо посторонился, чтобы не ударило оглоблей - не сшибло с ног.
Что в этот страшный миг подумалось ему?
Солдаты близились.
Шатров натянул левую вожжу - санки снова понеслись на человека, стоявшего, как затравленный сохатый, посреди белой, снежной улицы.
И вдруг, поравнявшись с ним со спины, Шатров, еще загодя скинувший рукавицы и весь изготовившись, рванул всей своей силой человека с револьвером, повалил его навзничь поперек своих саночек.
Только теперь поняли приостановившиеся было солдаты, что произошло. Крикни Шатров заранее этому человеку, что, дескать, изготовься, спасать тебя мчусь, - его предупреждающий крик услыхали бы и солдаты и жандарм, и, конечно, кинулись бы со всех ног помешать!
А теперь, когда они опомнились и закричали: "Стой!" - и побежали вдогонку, могучий шатровский Бурушко уж пластал во всю свою рысь!
Один, другой солдат приложился и выстрелил вслед, - но где уж там! А через какую-нибудь секунду Шатров круто повернул в первый переулок направо, и саночки исчезли из глаз преследователей...
Так на заимке Шатрова, на мельнице, в январе тысяча девятьсот шестого года появился новый писарь-конторщик, он же и кассир. А все давно знали, что хозяин извелся, отыскивая на эту необходимейшую должность подходящего, хорошо грамотного человека. Так что никто и не удивился.
Правда, писарек уж слишком был грамотный - отлично владел двумя иностранными языками: немецким и французским; мог бы прочесть, пожалуй, неплохой, общедоступный курс лекций по философии; досконально изучил Маркса; обладал кой-какими сведениями в химии, правда несколько своеобразными: ну зачем, например, писарю-конторщику речной маленькой мельницы уметь делать... бомбы? Или изготовлять казенные печати? Да и случись у него нужда в заработке, так в любом городе ни одна театральная парикмахерская не отказалась бы от его услуг в качестве гримера: работал на диво! Теперь никто не узнал бы в нем того рыженького, с жидким усом рабочего, что произносил речь с паровоза, или того седенького интеллигента, который метался на заснеженной улице, когда его спас Арсений Шатров!
Словом, перегружен был шатровский мельничный писарек совершенно излишними по его службе знаниями!
К счастью, об этом, кроме самого Шатрова, здесь и окрест никто не знал, не ведал. А у самого Матвея Матвеевича Кедрова было еще одно замечательное уменье-знание: как с к р ы в а т ь свои знания от людей. А то вот удивились бы - и на мельнице, да и в окрестных селах!
Впрочем, удивились: что неблагодарный он оказался к Шатрову. Так и говорили: он, мол, его разыскал, привез; одел и обул; жалованье какое ему положил, а видать, что человек нуждался! И на вот те: переманил его у Шатрова земский начальник Лавренков - переманил в волостные писаря! Да и куда переманил: тут же, в пяти каких-нибудь верстах, в Калиновку, в волостное правление!.. Месяца у Шатрова не прослужил! А впрочем, слыхать, без обиды расстались. Дак ведь Шатров - мужик неглупой, понимает, поди: рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше! У волостного-то писаря жалованье, конечно, побольше. Опять же и начальство над крестьянами, да и большое: без волостного писаря куда денешься, какую бумагу справишь?!
Так поговаривали иной раз окрестные крестьяне-помольцы шатровской мельницы, ожидающие на своих возах помола.
Писарька вспоминали добром на шатровской мельнице: обходительный был человек, не шумливал на народ!
Еще осенью тысяча девятьсот пятого года и царю, и его премьеру Витте, "графу Полу-Сахалинскому", как прозвали его за отдачу японцам пол-Сахалина, и Столыпину, и, наконец, великому князю Николаю Николаевичу, этому спириту и мрачно-неистовому человеконенавистнику, которого толкали в диктаторы, а он упирался и грозил застрелиться у ног царя, если тот не подпишет конституцию, - всем им стало до ужаса ясно, что, не усмирив Сибирь, не подавить и революцию в России.
А в Сибири и на Дальнем Востоке дело дошло уже вплотную к захвату власти.
Вот что постановило солдатское собрание в Чите в конце ноября тысяча девятьсот пятого года:
"Принимая во внимание, что теперь по всей России восстал рабочий класс под знаменем социал-демократической рабочей партии, а за ним поднимается и крестьянство, мы заявляем, что мы сами, крестьяне и рабочие, сочувствуем их борьбе, вместе с Рабочей партией отвергаем Государственную думу, где не будет наших представителей, и требуем окончательной отмены монархии".
Окончательной отмены!
Иркутский губернатор Кутайсов через два дня после царского манифеста телеграфирует в Петербург: "Брожений между войсками громадное, и если будут беспорядки, то они Могут кончиться только смертью тех немногих, которые еще верны государю. На войска рассчитывать трудно, а на население еще меньше".
Вот тогда-то и решено было на тайном царском совете пропороть насквозь весь Великий сибирский путь двумя встречными карательными поездами - двух баронов.
Западный "поезд смерти", барона Меллера, отошел из Москвы в ночь на первое января тысяча девятьсот шестого года с Курского вокзала, имея на себе сводный отряд императорской гвардии.
Барон, во главе офицеров, обильным, с провозглашением здравицы в честь "обожаемого монарха", пиром встретил в поезде Новый год. Этим и открыл экспедицию.
Всем солдатам было выдано по бутылке пива.
Уже в Сибири отряд поезда еще больше возрос за счет нескольких сотен казаков.
Приказано было нигде долго не задерживаться: "пронзить всю Сибирь молнией беспощадной кары". А потому к приходу поезда на какую-либо крамольную станцию местная охранка или военный прокурор уже должны были приготовлять для барона список подлежащих расстрелу.
Местами же отряд барона сам устраивал внезапные вылеты-облавы.
Жизнь офицерского состава протекала размеренно.
До десяти утра в салон-вагоне барон с офицерами пьют чай; в двенадцать - завтрак из трех блюд; продолжается он часа три. В шесть часов - обед из пяти блюд; длится он тоже три часа. Ну, а дальше - там уж каждый по своему усмотрению.
Впрочем, обед не служил для барона задержкой и помехою в его "служебной деятельности". Напротив!
Вот к нему, возглавляющему офицерское застолье, обращается некто Марцинкевич. Это - телеграфист поезда. Он просит разрешения барона доложить ему об одном арестованном. "Пожалуйста!" Оказывается, арестованный - тоже телеграфист одной из станций. Отказался передать "высочайшую" телеграмму.