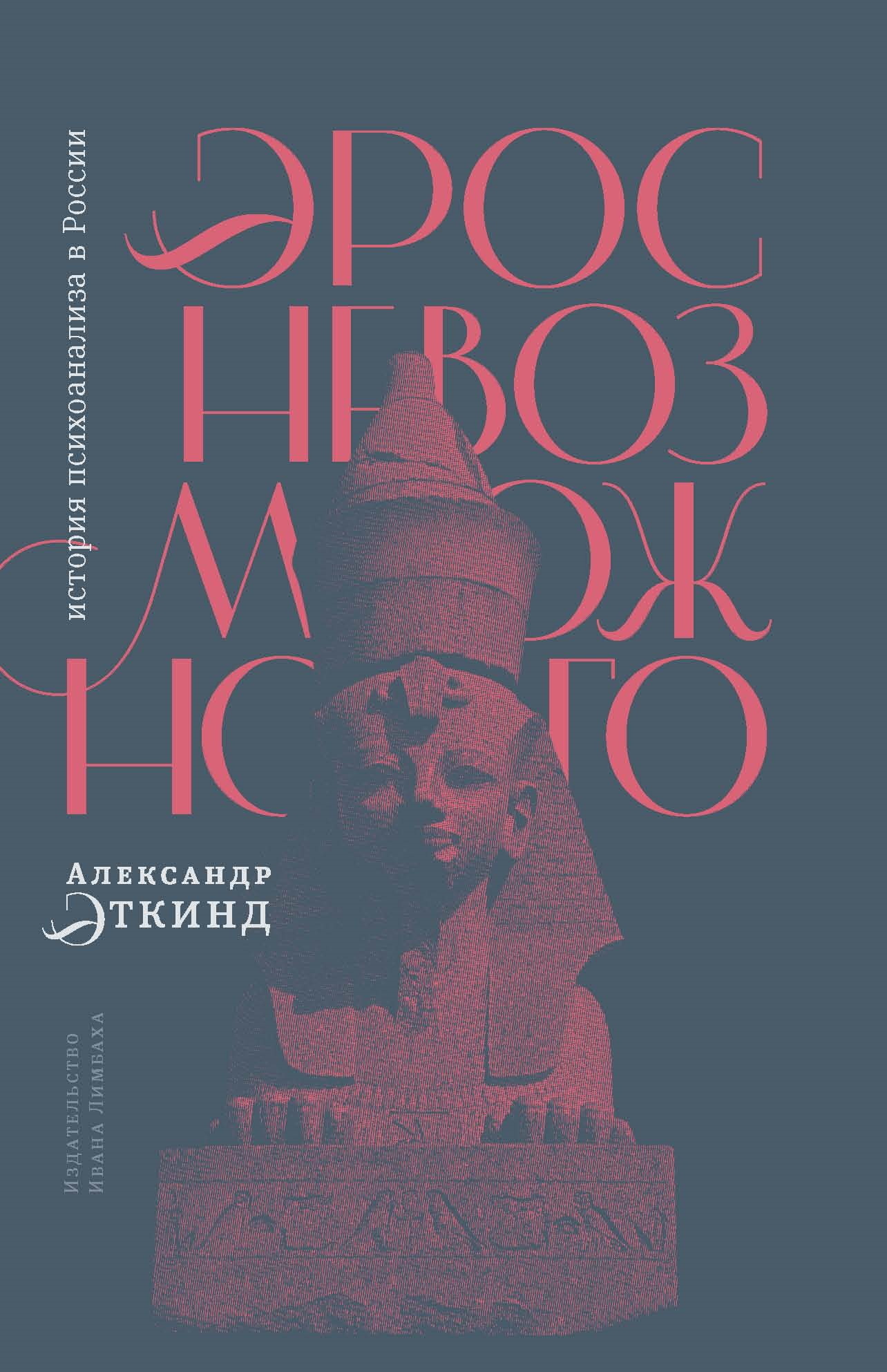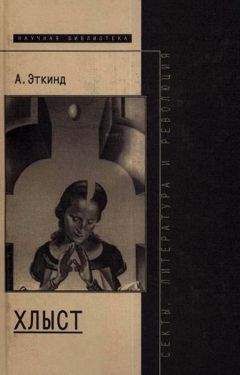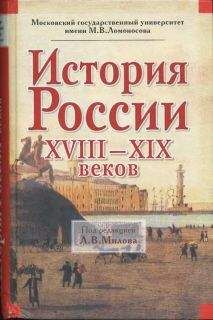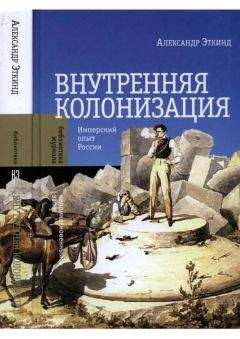глубине сексуального акта… скрыта смертельная тоска». Сходная интуиция, чувствующая общность любви и смерти и ищущая доказательств этой общности в мифологических глубинах культуры, привела Сабину Шпильрейн к открытию влечения к смерти как другой стороны двуединого полового инстинкта (см. гл. V).
Даже Лев Толстой, одинокий оппонент русского модерна, отзывался в своих знаменитых повестях все на ту же проблему. Принципиально и демонстративно безразлично, кого убивают герои «Крейцеровой сонаты» и «Дьявола»: в одном варианте «Дьявола» – себя, в другом, тут же публикуемом – любовницу. Важно, что любовь ведет к смерти и, по сути дела, идентична ей; соблазн пола и есть соблазн смерти.
Древняя религия умирающего и возрождающегося Бога привлекала к себе внимание разных европейских культур. Английский этнограф Джеймс Фрезер пытался исследовать ее методами позитивной науки, сводя к ней великое разнообразие языческих, библейских и новозаветных сюжетов и представляя ее как центральное ядро всякой магии и религии. Ницше придал религии Диониса универсальное значение и, в духе немецкого романтизма, сумел очистить ее от следов постылой реальности. Он пользовался Дионисом и Аполлоном как всеобщими символами хаоса и порядка, чувств и разума, воли и покоя. У Ницше Дионис хоть и преобладал над Аполлоном, но все же имел в нем хотя бы потенциального партнера для диалога.
Умирающий Блок разбил бюст Аполлона кочергой. Вячеслав Иванов считал дионисийство особо присущим славянам. «Истыми поклонниками Диониса были они – и потому столь похож их страстной удел на жертвенную силу самого, извечно отдающегося на растерзание и пожрание, бога эллинов», – с увлечением говорил он 15 октября 1917 года. Что же касается «германо-романских братьев», то у них царит аполлонийский «лад и порядок, купленный принужденным внешним и внутренним самоограничением».
Рассказывая об Иванове, его универсальной культуре и артистизме, Бердяев писал, что «в России до революции образовались как бы две расы… На «башне» велись разговоры самой утонченной культурной элиты, а внизу бушевала революция». Возможно, разница между верхом и низом была не такой уж большой. Почти никогда не поминая Аполлона, Иванов делает из Диониса символ бездонной глубины, в котором любой нуждающийся интеллектуал, искатель и грешник мог найти недостающую ему идентичность. Дионис превращается в монологическое, все объясняющее нечто, порождающее само себя и потому не нуждающееся в партнере. В своем главном действии умирания-возрождения, в котором перемешано все, что выработано человеком для понимания мира – рождение и смерть, субъект и объект, любовь и ненависть, – он решает все проблемы, отвечает на все вопросы.
Среди австрийских интеллектуалов начала века влияние дионисийских идей Ницше было чрезвычайно велико и тоже, как и в России, трактовалось в политических и эстетических терминах. Историки выявляют взаимовлияния тех же начал, дионисийского искусства и популистской политики, в творчестве таких разных деятелей модерна, как композитор Густав Малер, один из крупнейших психиатров эпохи Теодор Мейнерт или основатель Австрийской социал-демократической партии Виктор Адлер.
Любители Диониса составляли ближайший круг общения Фрейда. Мейнерт одно время был его другом и шефом, Малер – пациентом (никто не понимал его лучше, чем Малер, вспоминал Фрейд), а к Виктору Адлеру, другу и сопернику его молодости, он относился с необыкновенным уважением. Дионисийство, самый простой из возможных способов видения мира, предлагалось к употреблению выдающимися интеллектуалами своего времени, и этот их вклад по-своему готовил недалекое уже русское и немецкое будущее. Однако у самого Фрейда дионисийская идея не вызывала никакого отклика. Куда более отзывчив к ней был Юнг.
В начале 1910 года он предлагал Фрейду вести психоанализ к превращению в новую религию умирающего и возрождающегося Бога. «Сообщество, которое бы имело какое-то этическое значение, не может быть искусственным, но должно питаться глубокими инстинктами расы… Только мудрые становятся нравственными благодаря голым интеллектуальным презумпциям, остальным из нас необходима вечная правда мифа… Этические проблемы сексуальной свободы неисчислимы, и они достойны того, чтобы над ними попотели мудрецы. Но 2000 лет христианства могут быть заменены только чем-то эквивалентным. Этическое братство, не воодушевленное архаически-инфантильной движущей силой, останется чистым вакуумом и никогда не сможет возбудить в человеке малейший след вековой животной энергии, которая ведет птиц через океаны и без которой не происходит несокрушимых движений масс.
Я представляю себе значительно более прекрасное и всеобъемлющее будущее для психоанализа… Я думаю, мы должны дать ему время проникнуть в людей в самых разных центрах, оживить среди интеллектуалов чувство символа и мифа, незаметно превратить Христа снова в пророчествующего бога вина, которым он и был, и впитать экстатические инстинктивные силы христианства для единственной цели – сделать культ и священный миф тем, чем они действительно являются, пьянящим праздником радости, на котором человек обретает дух и святость животного… Подлинное этическое развитие не отбрасывает христианство, а прорастает сквозь него, осуществляя на деле его песню любви, агонии и экстаза над умирающим и возрождающимся Богом, мистическую силу вина, страшное людоедство Тайной вечери, – только такое этическое развитие может служить жизненным силам религии».
И содержание, и стиль, и словарь этого документа, сильно выбивающегося из трезвого духа переписки Юнга с Фрейдом, чрезвычайно близки идеям и словам русских символистов тех же лет. Речь идет, видимо, не столько о взаимовлиянии, сколько об общих источниках. Главным из них был, конечно, Ницше, с идеями которого можно соотнести едва ли не каждую фразу этого письма. Юнг переживал в это время свой кризис, вызванный отношениями с его русской пациенткой Сабиной Шпильрейн, и «неустойчиво балансировал на грани между дионисийством и аполлонийством», о чем тут же сообщал Фрейду. Ответ был суров: «Дорогой друг, ну и бурное у Вас вдохновение, оно докатывается до меня как раскат грома».
Юнг и его последователи много раз пытались совместить философию Ницше, филологию Иоганна Бахофена и этнографию Фрезера с психоанализом Фрейда. Собственно, «Метаморфозы и символы либидо» Юнга и были такой попыткой совместить Эдипа с Дионисом. Именно эта его работа послужила причиной для разочарования Фрейда в нем как в теоретике. Для Фрейда синтез этих начал был невозможен, он означал подрыв оснований психоанализа. Юнг же и много лет спустя, уже после второго поражения Германии в войне, интерпретировал новый исторический опыт все в тех же терминах. Юнг утверждал в 1947 году, что Дионис у Ницше – лишь одно из воплощений более могущественного Вотана, бога шторма, магии и завоеваний. Вотан же есть подлинный бог Германии, страны духовных катастроф.
В мире русского символизма Дионис стал главным героем, как Эдип в психоанализе Фрейда. Их сопоставление тем более интересно, что в структурном плане Дионис для Вячеслава Иванова, как