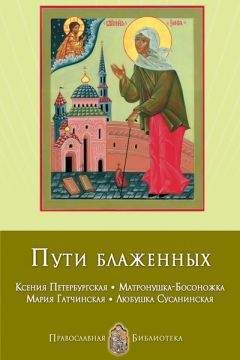Когда-то все эти вещи принадлежали Кириллу. Когда-то он писал в этих тетрадях. Когда-то учебники стояли на этажерке, синий чертеж был аккуратно наколот на стене, матрас застелен белым одеялом. Когда-то... Нет, вот сию минуту Кирилл сидел на этом стуле, посредине комнаты, вот только что он уронил этот стул, шагнув назад от Веры Никандровны, когда она, прощаясь, подняла руки к его лицу, а он сморщился, постарев в один миг на много-много лет. Вот только что она придавила к плечу его голову, а он вырывался из ее объятий и в то же время больно мял и гладил ее пальцы. В ушах у нее еще стоял грохот падающего стула, а все ушло, отодвинулось куда-то за полтора десятка лет, когда Вере Никандровне пришли сказать, что ее мужа Волга выбросила на пески и она должна опознать его труп. Она просидела тогда ночь напролет, так же, как теперь, опустив руки, боясь шелохнуться. Но тогда возле нее, под белым одеялом, спал четырехлетний Кирюша, и хотя смерть коверкала все прежнее, жизнь оставляла Вере Никандровне остров, на котором пчелы жужжали вокруг медовых деревьев, жаворонки вились в поднебесье, ключи звенели в прохладных рощах. Остров цвел, разрастался, обнимая собою всю землю, охватывая мир, и вот теперь вдруг затонул, проглоченный бездонной трясиной. Белое одеяло сброшено на пол, дом пуст, Вера Никандровна одна.
И ей грезится происшедшее во всей навязчивой застывшей очевидности.
Едва жандармы начали обыск, вернулся из театра Кирилл. Они сами отперли ему дверь и сразу окружили его. Вера Никандровна успела взглянуть ему в лицо и увидеть, как мгновенно почернели его брови, глаза, виски и темным прямым мазком проступили над губами словно вдруг выросшие усы. Они вывернули ему карманы и ощупали его до пят. Они промяли в пальцах все швы его куртки. Они посадили его на стул посредине комнаты. Они стали рыться в его постели, в его белье. Они простукали костяшками пальцев ящики и ножки стола, косяки дверей. Они выгребли из печки золу и перекопали мусор. Они взялись за книги, и когда перелистывали пухлую, зачитанную "Механику" выпали и мягко скользнули по полу, разлетевшись, семь маленьких, в ладонь, розовых афишек, и старик жандарм с залихватскими баками, не спеша подобрав бумажки с пола, произнес в добродушном удовольствии:
- Ага!
Кирилл сидел прямо, мальчишески загнув ступни за ножки стула, руки в карманы.
- Откуда у вас это, молодой человек? - общительно спросил жандарм, показывая ему афишки.
- Нашел, - ответил Кирилл.
- Не помните, в каком месте?
- На улице.
- На какой же такой улице?
- Далеко.
- От какого места далеко?
- Недалеко от технического училища.
- И далеко, и недалеко. Понимаю. Что же, они так вместе и лежали?
- Не лежали, а валялись.
- Так пачечкой все семь штук и валялись?
- Так и валялись.
- И вы их подняли?
- Поднял.
- Прямо с земли подняли?
- Конечно, с земли.
- А они такие свеженькие, чистенькие, без единого пятнышка, на земле, значит, так вот и лежали?
Кирилл промолчал.
- Ах вы, птенчик дорогой, как же это вы не подумали, что будете говорить, а?
- Я вообще могу вам не отвечать. Не обязан.
- А вот этому вас кто-то научил, что вы можете не отвечать, - укорил жандарм и снова принялся перелистывать книги.
Весь разговор он вел в тоне язвительно-ласкового наставника, заранее уверенного, что школьник будет лгать. Вере Никандровне хотелось прикрикнуть на него, что он не смеет так говорить, что ее сын никогда не лжет. Но упрямым спокойствием своих ответов Кирилл внушал ей молчание. У нее появилось чувство, что он управляет ею, что она должна подчинить ему свое поведение. Ей показалось, что он безмолвно приглашает ее в заговор с ним против воров, шаривших в его вещах. Боль и страх за него как будто отступили перед любованием им. Он знал, как себя держать в минуту отталкивающего и незаслуженного оскорбления. Теперь она воочию видела перемену, которая произошла с ним. О да, он переменился, но переменился так, что она могла гордиться им больше, чем прежде. Все, что происходило в их доме, было, конечно, тягостной ошибкой, которую надо перенести именно так, как переносил сын. Он учил мать держаться с тем достоинством, какое она мечтала в нем видеть, не вызывающе - нет, не грубо, но непреклонно, жестко, по-мужски. Боже, как он вырос, как возмужал! И почему Вера Никандровна поняла это только теперь, в это безжалостное мгновенье?
- Что ж, молодой человек, - проговорил жандарм, откалывая со стены портрет Пржевальского, - играете в революцию, а над кроватью повесили офицера?
- Офицер этот не чета вам, господин жандарм, - ответил Кирилл. - Он принес России славу.
Жандарм сорвал картинку и кинул ее на пол.
- Советую вам подумать о вашей матери, если вы махнули рукой на себя, - произнес он, и слышно было, как он осадил голос, чтобы не закричать.
Кирилл должен подумать о матери - это были чужие, холодные слова, но они обожгли сердце Веры Никандровны отчаянием. Ведь правда, Кирилл не подумал о ней! Он казнит ее своим бесчувствием, не слышит ее боли! Он навлек на нее страшное несчастье, он погубил себя, жестокий, бедный, милый, милый мальчик!
- Кирилл, - позвала она беспомощно-робко, - почему ты не объяснишься? Ведь все это ужасное недоразумение!
- Прощайтесь, - сказал жандарм, - мы отправляемся.
- Как? Вы собираетесь его увести? Вы хотите его взять - у меня? Но...
Она встала и сделала маленький шаг.
- Я мать... И как же можно? Ничего не разобрав...
- Вы не желаете проститься?
Двое жандармов подошли к Кириллу. Тогда она, чуть-чуть вскрикнув, бросилась к нему с протянутыми руками.
И вот, она не знает - много ли, мало ли прошло времени с тех пор, как она обнимала его жарко горящую голову. Она сидит на постели, окруженная разбросанными предметами, которые когда-то принадлежали Кириллу. А его нет. Его больше нет...
Солнечный прямоугольник, изрезанный тенью оконной решетки, укорачиваясь и становясь ярче, подвигался по полу, освещая свинцовый налет золы, клочья и завитки мочала. Мухи все живее жужжали, осчастливленные теплом. Отдохновенно шелестели за окном старые тополя, горластые воробьи ссорились и быстро мирились из-за того, кому сидеть на каком кусте.
Привыкнув к утренним звукам, воспринимая их как беззвучие, Вера Никандровна неожиданно заметила, как что-то нарушает тишину - как будто кто-то крался по соседней комнате и боязливо покашливал. Она очнулась.
В дверях стояла Аночка. Открыв рот, она смотрела на Веру Никандровну распахнутыми неподвижными глазами.
- Ты что? - спросила Вера Никандровна шепотом.
- Я ничего, - торопясь и тряся головой, сказала Аночка. - А вы с кем-нибудь разговаривали?
- Разговаривала? Я не разговаривала.
- Ну тогда... просто так. А я думала, с кем-нибудь.
- Да как ты сюда попала?
- У вас отперто.
- Отперта дверь?
- Вот так вот - настежь. Я вошла, слышу - вы тихонько разговариваете.
- Да, да, значит, забыла. Вон что.
- А зачем у вас лампа горит?
- Лампа? Ах, да, да, - сказала Вера Никандровна, порываясь встать.
Аночка подбежала к столу, привернула фитиль, дунула в стекло, и оттуда вырвался рыжий шар копоти. Сморщившись, она виновато взглянула на Веру Никандровну и вдруг подошла к ней и тихо тронула ее опущенное плечо.
- Это все солдаты разорили? - спросила она сердито и участливо.
- Какие солдаты?
- Ну, которые его забрали.
Вера Никандровна схватила Аночку за руки и, не выпуская их, оттолкнула от себя ее маленькое легкое тельце.
- Откуда ты знаешь? Откуда? Кто тебе сказал? - заговорила она, сжимая и теребя ее руки.
- Маме сказали...
- Что сказали? Кто, кто?
- У нас там дяденька один, ночлежник. Он сказал маме, что он шел ночью, когда стало светать. И что видел недалеко от училища, как ученика солдаты забрали и повели. А мама спросила - какого? А он сказал - а черт его знает какого. В форменной фуражке. Тогда мама говорит, может, это сын учительницы? Это она про вас. Он опять чертыхнулся и сказал - может, и сын. И я тоже подумала.
- Боже мой, боже мой! - вздохнула Вера Никандровна и выпустила Аночку из рук.
- А у нас Павлик ночью не спал, а потом уснул, я его уложила и побежала к вам, посмотреть.
- Все уже знают! Неужели все знают?
Вера Никандровна опять схватила Аночку, заставила ее сесть рядом на кровать и, гладя по растрепанным косичкам, прижала крепко к себе.
- Нет, нет, никто еще не знает, кроме тебя с мамой. Правда? И ты никому не говори. Нельзя говорить, понимаешь? Это все случайность, его отпустят, он скоро вернется. Вернется, понимаешь?
- Ну да, понимаю. Он ведь хороший.
- Он очень, очень хороший! - воскликнула Вера Никандровна, со всей силой поцеловала Аночку в щеку, и вдруг ее речь стала внушительная, почти спокойная: - Вот что, девочка. Ты помнишь Лизу Мешкову? Помнишь, да? Ну вот, поди сейчас к ней и скажи, что я ее прошу прийти ко мне. Но только ничего не рассказывай про Кирилла, хорошо? Поняла? Чтобы она сейчас же ко мне пришла. Ступай. А я пока здесь уберу, подмету.

![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)