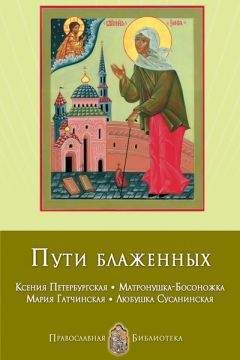Мешков стоял против нее, прочно расставив ноги и дергая на жилете цепочку с часовым ключиком. Дыхание его посвистывало сквозь оттопыренные усы, борода сбилась набок.
- Разрешите заявить вам, сударыня, - произнес он на той глухой и низкой ноте, на которую спускался, когда хотел овладеть гневом, - что моя дочь никаких отношений не имела с вашим сыном и никогда не могла иметь. И посягать на нее я не позволю. По вашему делу вы обратились не туда. В доме моем никто преступных особ под защиту не берет. И я долгом считаю оградить свою дочь от неблагонадежности. Вы уж лично извольте пожинать то, что посеяли. Мы вам не помощники. Имею честь.
Он посторонился, открывая Вере Никандровне дорогу к выходу.
- Что ж, - сказала она, нагнув голову, - ничего не поделаешь. Мне только очень жалко вашу Лизу.
- Это как вам угодно. У нее есть родители, они ее жалеют не по-вашему, а по-своему. Вот вам бог, а вот... - И он показал вытянутым перстом на лестницу.
Не поднимая головы, Вера Никандровна спустилась вниз и вышла на двор. Мешков следовал за ней. Он хотел проводить ее до калитки, чтобы убедиться, что она действительно покинула его крепостные стены.
Но он не успел перешагнуть порог дома, как остановился: нет, потрясения этих несчастных суток еще не кончились. По двору близился к нему, - выступая самоутверждающе и грозно, в белом летнем мундире с оранжевым кантом по вороту и обшлагам, в оранжевых погонах, в пышно расчесанных и тоже оранжевых усах, сияя новой бляхой на фуражке и начищенным эфесом, - полнотелый апельсиноволицый городовой. Неужели и впрямь продолжались пугающие видения ночи? Неужели никогда больше не обретет Меркурий Авдеевич покоя? Неужели так и будут ходить за ним по пятам то жандармские, то полицейские мундиры? И надо ж, надо же случиться такому греху, что как раз и натолкнись этот идол с бляхой на зловредную посетительницу, о которой Меркурий Авдеевич не хотел бы ни знать, ни ведать!
Но, кажется, нет - полицейский не приметил Веру Никандровну. Он даже не повел на нее глазом. Он шел прямо на Мешкова, и чем меньше оставалось между ними расстояния, тем ближе подползали концы его оранжевых усов к глазам, тем глубже прятались остренькие точечки зрачков в припухлых скважинах век.
- Здр-равия желаем, Меркурий Авдеевич, - пророкотал городовой, и Мешков узнал в нем квартального своего участка.
- Здравствуй, голубчик, - ответил он с удовольствием и даже с тем реверансом в голосе, какой у него появлялся только в разговоре с весьма исключительными людьми, - что это я тебя не узнал?
- Давно не видали, Меркурий Авдеевич. С масленой недели не заходил. В деревню в отпуск ездил.
- А-а, хорошо. Ну, как в деревне?
- Благодарю покорно. Семейные мои всем довольны. Крестьянство соблюдает порядок.
- Да, конечно. Мужички не то, что городские стрекулисты.
- Так точно.
- А ты что зашел?
- Напомнить, Меркурий Авдеевич: завтра - царский день, так чтобы флажок не запамятовали вывесить. И на ночлежном доме прикажите, чтобы обязательно.
- Хорошо, голубчик, спасибо.
Мешков пошарил в жилете, отсчитал тридцать копеек и дал городовому.
- Благодарим покорно, - сказал городовой и сделал поворот кругом марш.
"Может, все понемногу и обойдется", - подумал Мешков, вздохнув, как ребенок после плача.
19
Егор Павлович условился с Пастуховым позавтракать на пароходе: часам к одиннадцати приходил сверху пассажирский "Самолет", долго стоял на погрузке у пристани, и люди, понимавшие в кухне, любили провести часок на палубе.
Погода выдалась сиротская, с туманчиком. Даже к полудню Волга не могла оторваться от мглы, волоча ее осовелыми водами. Воздух переливался в скучном дрожании песочно-бледной дымки, пароходные гудки застревали в ней, весь город приглох. Тупо тукали по взвозам потерявшие звонкость подковы.
Цветухин шел в том состоянии, которое можно назвать бездумьем: мысли его росли, как ветви дерева в разные стороны. Подняв голову и увидев на крыше телефонной станции высокую клетку хитро скрещенных проводов, он вспомнил свои изобретательские увлечения. Он никогда ничего не изобрел и не мог бы ничего разработать, но ему приходили на ум разные технические идеи, вроде, например, электроаккумулятора, который должен быть маленьким, легким и мощным. Если бы Цветухину удалось напасть на совершенно неизвестный вид изоляции, конечно, дело было бы в шляпе. Случайность должна была бы помочь в поисках, как во всяких открытиях, но случайность почему-то не помогала.
На деревянном тротуаре около Приволжского вокзала Егора Павловича обогнала девушка, постукивая новенькими каблучками. Глядя на синий бант косы, хлопавший по ее муравьиной талии, он стал думать о Лизе. Ее волнение нравилось ему, вчерашняя сцена в уборной казалась обещающей: Лиза глубоко оскорбилась за него и в таком смятении убежала, что теперь, наверно, ни за что не примирится с Кириллом, заставившим ее страдать. И - кто знает может быть, теперь, в этот желтенький денек, она тоже думает о Егоре Павловиче и в ней расцветает чувство, которое вызовет в нем ответ, и потом обнаружится, что они предназначены друг другу, и Егор Павлович женится и будет счастлив.
Все, вероятно, уверены, что актер Цветухин должен быть непременно удачником в личной жизни. Наверно, считают, что, обладая известностью, нельзя нуждаться в ласке и нежности, что любовь и радость ходят по пятам за славой. Только сам Цветухин да еще, пожалуй, Мефодий знают, как далеко это от действительности.
Егор Павлович был женат на актрисе Агнии Львовне Перевощиковой, но уже третий год как ушел от жены, и она разъезжала по театрам одна. Женщина язвительная, без заметного таланта, она отличалась небольшим умом и рассчитывала на Цветухина, как на парус, который вынесет ее на простор успеха, но парус не мог сдвинуть ее с места, да это едва ли удалось бы целой артели бурлаков. Она винила его в безучастии, а когда он хотел помочь ей - обижалась, потому что способна была только поучать, но не учиться. Всю недолгую совместную жизнь с ней Цветухин видел себя постоянно в чем-то обвиненным. Это был не брак, а судебное разбирательство, и, лишь уйдя от жены, вечный подсудимый почувствовал себя оправданным.
Но к тридцати годам даже добрые друзья - плохие утешители одиночества. Нет-нет и вспомнит себя Егор Павлович подсудимым, усмехнется и спросит - да так ли уж все было худо? А если один раз вышло худо, не получится ли лучше во второй? И вот, спускаясь на берег, он слушает, как постукивают новенькие каблучки по деревянным ступенькам, и все не может оторвать взгляда от синего банта, подпрыгивающего на муравьиной талии, и смотрит, смотрит на него, пока он, порхнув, не исчезает где-то на пристанном складе, за горами рогож. Надо бы, наконец, возбудить дело о разводе, да другие дела мешают взяться.
Работа в театре с ее людностью и горько-сладкой отрадой то полнила, то опустошала Егора Павловича. Он привык к этой лихорадке и немного побаивался, что вот, может быть, запретят пьесу, в которой он так славно сыграл Барона, и на том окончится затянувшийся сезон, и до октября он останется наедине с собой.
Так, подумывая о том, о сем, Егор Павлович добрался до пристани и проследовал по качким сходням, сторонясь от крючников, мерно двигавшихся двумя лентами, - одни, пригнутые грузами, - на пароход, другие, распрямившиеся, с пустыми заплечьями, - на берег. Войдя на нижнюю палубу парохода, Цветухин остановился.
Слева был открыт люк носового трюма, куда скатывали по нашлифованным доскам грузы и где, в глубине, освещенный электричеством, скучно орал на крючников боцман, сняв фуражку и почесывая в затылке. Справа, перед машинным отделением, громоздилось необычайное по неуклюжести и в то же время воздушное сооружение из огромных плоскостей, планок, проволочных тяжей и скреп. Цветухин сразу догадался, что это - разобранный биплан, и тут же расспросил и узнал, что это авиатор Васильев перевозит свой летный аппарат. Машина занимала страшно много места, но так, что казалось, будто и не занимает никакого места: везде можно было пролезть, и всю ее было насквозь видно, и снизу, и сверху, и с боков, и вся она была ясной, простой, но в простоте ее, в каждой ее проволочке пряталась загадка, и парусина ее крыльев, пролакированная, барабанно-тугая, была таинственна. Цветухин, подобрав свою накидку, принялся обходить биплан со всех сторон, заглядывать под крылья, щупать их, щелкать по парусине, обнюхивать лак, измерять по-плотничьи - раздвинутыми в циркуль пальцами - длину и ширину плоскостей. У него почему-то стучало сердце, он слышал его. Панама сбилась и упала ему под ноги, он наступил на нее, поднял, торопливо закатал ее в трубку, и все ходил, и приседал, и вставал на цыпочки, исследуя спину аппарата. Он мешал крючникам разворачиваться перед люком, они все кричали на него:
- Пазволь! Па-азволь!
Наконец один из носаков больно двинул его тюком в плечо и крикнул:

![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)