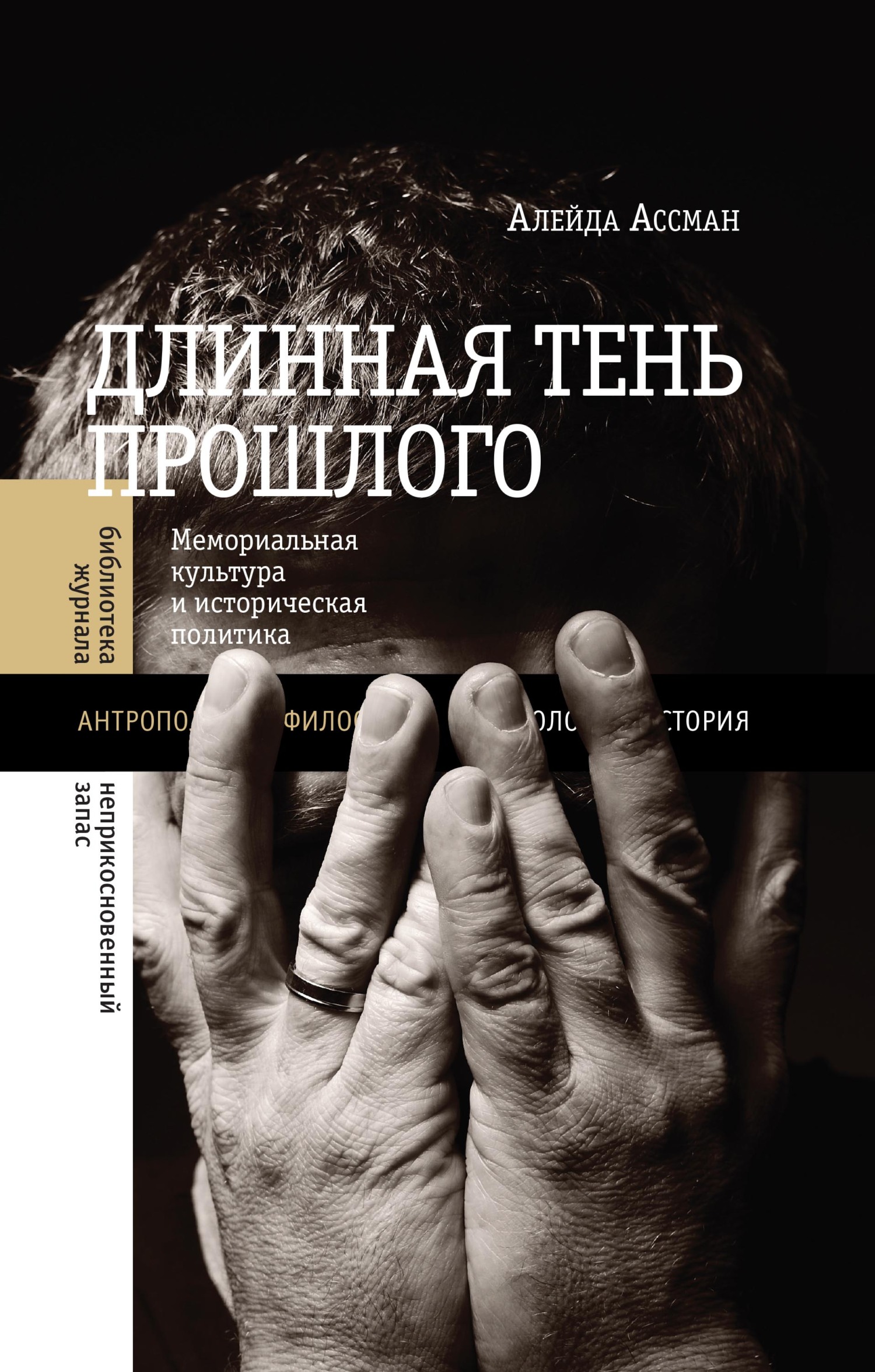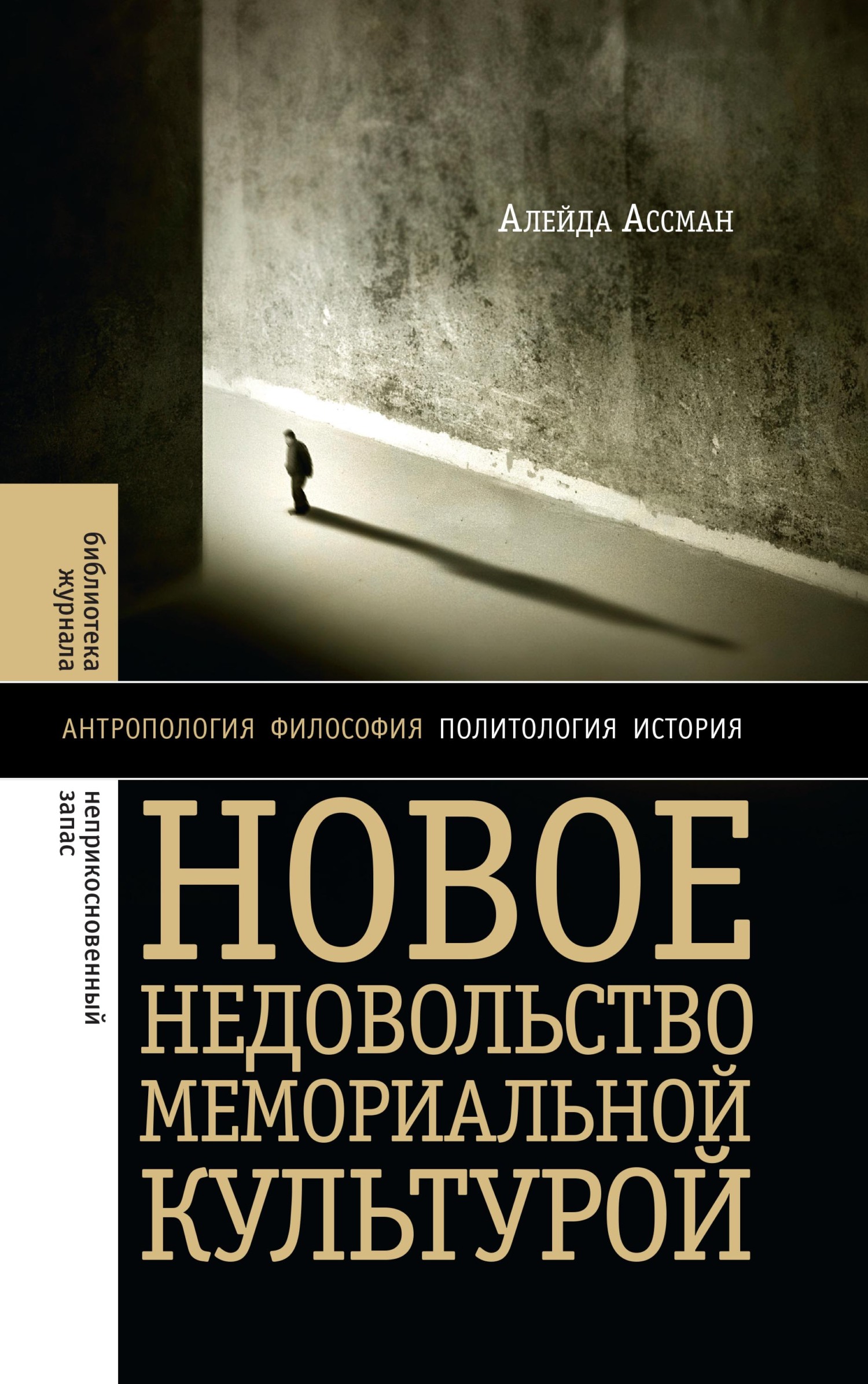Лета может оказать целительное воздействие, чтобы восстановить равновесие, необходимое для мира. В обычном случае подобная мера должна действовать уже на следующий день после состоявшихся выборов: боевые лозунги предвыборной кампании следует забыть, чтобы непримиримые контрагенты могли стать партнерами и приступить к сотрудничеству. А вот между преступниками и их жертвами устанавливается асимметрия насилия, в которой не может быть взаимности. Здесь нельзя пользоваться «предписанным забвением» (соответствующая формула в договоре о Вестфальском мире гласила: «perpetua oblivio et amnestia»). Асимметрия насилия между преступником и беззащитной жертвой находит свое продолжение в асимметрии памяти, поскольку в радикально изменившейся политической ситуации преступник ищет спасения в забвении, а жертва хранит память о прошлом как величайшую ценность. Такая асимметрия устраняется не обоюдным забвением, а только общей памятью. Вместо забвения в виде
преодоления прошлого должны прийти совместное воспоминание как акт примирения, совершаемый порой уже только потомками, и
сохранение прошлого.
На полпути между воспоминанием и забвением находится создание «Truth and Reconciliation Commission» (TRC), образованной в 1996 году в Южной Африке под патронажем южноафриканского архиепископа Десмонда Туту. На период перехода от апартеида к демократии комиссия ставила перед собой цель сделать достоянием общественности правду о преступлениях апартеида без судебного преследования самих преступников. Речь, таким образом, шла о том, чтобы сохранить в памяти историческую правду о преступлениях против человечности и одновременно «забыть» о наказании, которое являлось бы следствием осуждения этих преступлений. Поскольку ставилась задача объединить черное и белое население в демократическом обществе, открытом для будущего, процедуры комиссии был нацелены на прощение и примирение. Но это подразумевало признание травм, нанесенных жертвам; сами жертвы должны были быть выслушаны; более того, им приходилось во время публичных процессов вновь переживать причиненные им страдания, катарсис скорби, чтобы совместно преодолеть проблему. Жертвам даровали правду, но не право. Если бы виновные понесли наказание, то фундамент нового государства мог быть разрушен [145]. Поэтому южноафриканцы вместе вспоминают, чтобы потом вместе забыть. Процессы, устраиваемые комиссией, которые не случайно проходили под патронажем архиепископа, носили не только ритуальный характер – они были сильно пронизаны христианской символикой нравственного очищения и примирения.
«Неспособность скорбеть» – под таким названием, ставшим запоминающейся формулой, вышла знаменитая книга психоаналитиков Александера и Маргарете Мичерлих. Эта диагностированная ими неспособность была характерна для немецкого народа и до окончания Второй мировой войны. Она обусловлена долгосрочной программой воспитания, которая сопровождала уже период милитаризации Пруссии и стала поведенческой нормой в кайзеровской Германии. От способности скорбеть особенно отучали мальчиков; «мальчики не плачут» – таким был один из самых распространенных и глубоко усвоенных императивов воспитания [146]. Кроме того, культивировались суровость и самодисциплина, эти установки распространялись и на женщин, что определяло характер социализации детей в самом раннем возрасте [147]. Многие десятилетия строгого воспитания не позволили быстро измениться эмоциональной организации немцев и после войны. Если политические структуры могут трансформироваться едва ли не вдруг, то для изменений ментальных привычек и внутренних поведенческих парадигм необходимо гораздо больше времени. Это в еще более значительной мере относится к бессознательным установкам привитой с детства эмоциональной культуры, которые продолжают действовать еще очень долго.
Йен Бурума вспоминает сцену из романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан», где в старом немецком ресторанчике посетителям подают маленькую разделочную доску, кухонный нож и луковицу. Эта луковица, говорится у Грасса, способна добиться результата, «которого не мог добиться весь мир и все страдания мира – круглой человеческой слезы. Тут все плакали. Плакали пристойно, плакали безудержно, плакали навзрыд» [148]. Голландец Бурума подметил еще в 1994 году то, что немецкие интеллектуалы осознали лишь несколькими годами позже: в либеральных кругах рефлексирующей интеллигенции «много размышляют и часто просят прощения. Но скорбеть о мертвых немцах (о солдатах и гражданском населении, погибшем под бомбами союзников или изгнанном с родины польскими, чешскими или словацкими соседями, которые мстили немцам) было как-то неловко; это отдавалось на откуп преимущественно правым националистам или тем, кто, пережив войну, все еще ностальгировал по утраченной родине» [149].
К теме неспособности скорбеть обратился и писатель Винфрид Георг Зебальд в своих поэтических лекциях, прочитанных в 1997 году в Цюрихе. Он выдвинул вызвавший множество споров тезис о том, что в историческом сознании немцев и их долговременной памяти не оказалось места для воспоминаний о бомбардировках союзнической авиации, потому что писатели не сумели найти для этих событий подходящую и воспроизводимую форму. Зебальд говорит в этой связи о «скандальном дефиците» [150], что можно понять как недостаточную скорбь немцев по поводу страданий их соотечественников и как недостаточность осознания самими немцами их собственной вины. Дефицит скорби выражается для Зебальда в дефиците аутентичного литературного освоения исторического опыта. «Уцелевшие в катастрофе оказались ненадежными, полуслепыми свидетелями» [151]. Психоаналитик Вернер Болебер, комментируя эту фразу, справедливо указывает на недопустимость такой посылки Зебальда, согласно которой подобный опыт мог сразу же обрести выражение в точных и «адекватных» словах. Дефицит скорби обусловлен травмой, невыразимым ужасом, который «люди отстраняют от себя, чтобы суметь жить дальше» [152]. Иными словами, дефицит скорби сам по себе является симптомом травмы.
Скорбь – это спонтанный и глубоко интимный аффект, которым сопровождается потеря родственников и близких друзей; он возникает в контексте особой человеческой близости и потому не может быть просто распространен на большие анонимные коллективы. В эпоху формирования наций и всеобщей воинской обязанности аффект скорби переносился на нацию в целом, которая воспринималась как большая семья с соответствующими узами лояльности и пиетета. Для этой цели скорбь обретала ритуальные формы и выражалась в символических действиях, имевших указанную аффективную связь с национальным сообществом. Ренан понимал, что «в деле национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия», короче говоря, укрепляет чувство общности и преемственности. Йен Бурума также подчеркивает, что скорбь является не только личным аффектом – она исполняет и важную социальную функцию: «Ритуальное выражение скорби и утраты укрепляет чувство преемственности и общности» [153]. По окончании войны перед нацией встает задача включения павших в сообщество выживших. «Сохранением» погибших в коллективной памяти нация упрочивает сознание собственной идентичности. В этом смысле скорбь оказывается не инклюзивным чувством; напротив, память о «наших погибших», которые противопоставляются «вашим мертвым» и «их мертвым», всегда содержит элемент разграничения.
Семантика национальной скорби относится к той традиции, к которой в 1993 году обратился Гельмут Коль с новой концепцией мемориала Neue Wache. Эту семантику, которую, доводя пропаганду до эксцесса, эксплуатировал национал-социализм в рамках памяти о поражении, невозможно передать последующим