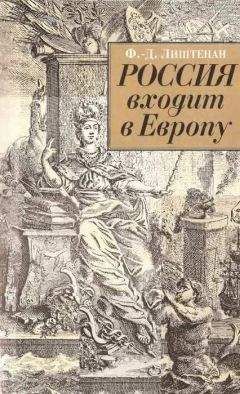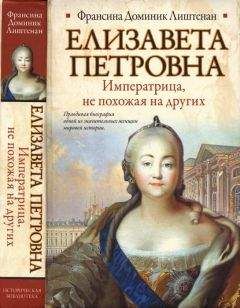Еще одна двоюродная сестра императрицы, Мария Семеновна Гендрикова, вышедшая замуж за камергера Чоглокова, была сделана обер-гофмейстериной великой княгини Екатерины; жене наследника она оказывала те же услуги, что некогда самой Елизавете, — покровительствовала ее тайным любовным похождениям, впрочем, не делая из них большого секрета. До отъезда Воронцова в путешествие Чоглокова была его любовницей и принадлежала к франко-прусской партии, однако властолюбие и круг знакомств сделали ее начиная с 1746 года сторонницей Бестужева и его клана. Другая Гендрикова некоторое время состояла в браке с неким Самойловым, авантюристом, которому по случаю женитьбы присвоили звание бригадира и чин камер-юнкера; счастливый супруг очень скоро убедился в неверности молодой жены и собрался ее поколотить, в гневе совсем забыв о ее августейшей родственнице. Елизавета, сама того не зная, повела себя как настоящая феминистка: немедленно развела супругов и выгнала негодяя-мужа из дворца. Легкомысленная и неумная, Гендрикова, однако, в обмен на пустяковые подарки оказывала некоторые мелкие услуги клану Лестока: сообщала имена приглашенных к императорскому столу, передавала письма и проч. Отъезд Воронцовых лишил франко-прусскую партию существенной поддержки: их отсутствие усилило опасную соперницу — жену канцлера, первую статс-даму Анну Ивановну Бестужеву. Если верить «Запискам» барона Фридриха фон дер Тренка, авантюриста и заклятого врага Фридриха II, государством управляла в первую очередь именно она{273}. Тренк, знаменитый своими любовными похождениями, не обошел своим вниманием и супругу канцлера. Анна Ивановна, урожденная Беттигер, была единственной, кто вызвал симпатию прусского юнкера, бранившего русский двор за скудость интересов и познаний. Тем не менее он описывает Бестужеву, не жалея яду и впадая в очевидные преувеличения. Так, он утверждает, что правила Россией и самолично решала, быть в стране войне или миру, именно Бестужева, канцлер же был якобы лишь марионеткой в руках жены, женщины умной и хитрой, державшейся более величаво, чем императрица. Тренк считает их брак несчастливым, поскольку в характере канцлера сочетались такие разнородные свойства, как хитрость, эгоизм, слабость и скаредность. Анна Ивановна была полностью предана англичанам, щедро оплачивавшим ее услуги. 1000 дукатов, которые получила от Дальона ее соперница княгиня Трубецкая, или 4000 рублей, которыми поделился Мардефельд с мужем княгини, генерал-прокурором Сената, не шли ни в какое сравнение с тысячами фунтов стерлингов, пополнявшими семейный бюджет Бестужевых. А д'Аржансон еще укорял своего посланника за неразумную трату денег на людей, которые «мнят,
что находятся на содержании у французского королевства»{274} … Куда ни глянь, экономная политика министров лишала посланников какой бы то ни было свободы действия.
Некоторые женщины становились статс-дамами благодаря весьма своеобразным родственным связям: Елизавета любила покровительствовать родственницам своих любовников. С невесткой фаворита Ивана Ивановича Шувалова, Маврой Егоровной Шуваловой, своей давней любимицей, Елизавета обсуждала политические вопросы и нередко прислушивалась к ее советам. Однажды Мавра Егоровна обнаружила, что муж изменяет ей с дочерью канцлера, и возненавидела все семейство Бестужевых. Между тем любвеобильный муж, Петр Иванович Шувалов, управлял всеми финансами Российской империи; он ввел монополии и откупа, часть которых отошла в его собственное пользование; благодаря принадлежавшим ему табачным откупам, северным рыбным промыслам, лесам Шувалов составил себе огромное состояние. Чтобы ревность жены не помешала его карьере, он представил виновником адюльтерной истории самого канцлера, бесчестного отца, который якобы продал ему, Шувалову, свою дочь за большие деньги. Дело замяли, любовная связь распалась, но скандал ослабил позиции обоих государственных мужей: на публике Елизавета любила демонстрировать величайшую стыдливость{275}. Окончательно рассорившись с канцлером, терзаемый сожалениями и нечистой совестью, Шувалов примкнул (по расчету) к франко-прусской партии, в чем его деятельно поддерживала жена, всегда готовая дать бой Бестужеву[79]. Клан Шуваловых, Румянцевых и Трубецких, хотя и становился нередко предметом анекдотов, после 1744 года составлял главную опору для Фридриха, которому приходилось оплачивать эту поддержку кружевами, табакерками, бутылками, не говоря уже о звонкой монете.
Впрочем, в том, что касалось отношений с женским племенем, Берлин и Париж действовали по-разному. Фридрих не считал необходимым подкупать подруг императрицы и тратил деньги только на подарки самым заметным из придворных, особенно если знал, что они стоят на его стороне. Сама идея заигрывания с двором, где все решают женщины, была ему глубоко отвратительна; он не слушал советов Мардефельда и презирал женское окружение императрицы — третью по счету силу, распоряжавшуюся в Зимнем дворце, после фаворитов и иностранных посланников. Пруссаки тратили деньги с оглядкой, а в стране, где со времен Екатерины I власть принадлежала женщинам, такое поведение было неуместным. Французы тоже не проявляли особой щедрости, но они понимали, что в первую очередь следует угождать дамам и через них завоевывать расположение царицы; д'Аржансон после долгих колебаний все-таки пошел на подкуп ближайших подруг Елизаветы. Супруга генерал-аншефа Румянцева, «статс-дама, пользующаяся особыми милостями императрицы», и княгиня Долгорукая, урожденная Голицына, «принадлежащая к самому лучшему придворному обществу», получали от французов вознаграждения от 4000 до 6000 ливров серебром наличными{276}. С помощью фавориток французы стремились привлечь на свою сторону старинную знать, что же касается родственниц императрицы, не блещущих родословной, то их французские дипломаты сторонились, что лишний раз свидетельствует о прохладном отношении Версаля к петровской служилой аристократии. Для Берлина, напротив, разница между новой и старой знатью большого значения не имела. Такое распределение интересов и денег могло бы составить силу франко-прусского союза. Однако обилие мелких придворных интриг сбивало дипломатов с толку и мешало им действовать слаженно.
Система кланов распространялась, среди прочего, и на приглашения в частные дома. Все события светской жизни контролировались Бестужевым. Если иностранный посланник давал ужин или бал, он посылал список приглашенных канцлеру. Следовало ни на минуту не забывать о системе группировок[80] и, приглашая друзей или членов бестужевского клана, обходить стороной единомышленников Воронцова или Лестока… Головоломная задача для иностранца, особенно если в число гостей входила сама императрица. В результате вечера проходили очень скучно, на всех лицах было написано уныние, придворные танцевали «серьезно, как на похоронах»{277}. Французы и пруссаки стали поэтому устраивать приемы реже, что вызывало неудовольствие Елизаветы, жадной до развлечений и гастрономических радостей{278}. В отношениях между собой дипломаты пренебрегали расстановкой сил на политической арене: они посещали друг друга даже в те периоды, когда их страны находились в состоянии войны или когда между их государями возникали конфликты. Мардефельд регулярно встречался с новым английским посланником Гилдфордом, который позже стал крестным отцом сына Финкенштейна. Дальон тоже ценил общество британского дипломата — человека образованного и веселого; отношения между англичанином и французом сделались настолько тесными, что газеты (по всей вероятности, с легкой руки Бестужева) постоянно уделяли им особое внимание; «журналисты» подмечали мельчайшие детали очередного обеда, пользовались любой возможностью порассуждать на дипломатические темы — и, разумеется, исказить существующую картину. Выведенный из терпения д'Аржансон попросил Дальона встречаться с британским коллегой на какой-нибудь нейтральной территории, желательно вдалеке от чужих глаз, чтобы не давать больше пищи газетчикам{279}. Дальон просьбу выполнил охотно, ибо ни бюджета посольства, ни собственных сбережений посланника на петербургскую светскую жизнь уже не хватало{280}. У Бестужева имелась собственная свита, привязанная к канцлеру не столько из честолюбия, сколько из корысти. На первом месте в этой группе придворных стоял Разумовский. Обер-егермейстер плохо разбирался в политике, не знал ни одного иностранного языка{281}, любил тратить деньги и льнул к самым богатым (например, к Гиндфорду) в надежде пополнить свой кошелек{282}. Черкасов, правая рука канцлера, произвел впечатление даже на хладнокровного Дальона: «человек до чрезвычайности грубый и безжалостный», он, по мнению французского посланника, особенно виртуозно владел искусством «пользоваться слабостями государыни»{283}. В этом же ряду следует назвать и Петра Семеновича Салтыкова, «старого дурака и болтуна»{284}, который своими шумными ссорами с обер-егермейстером вселял надежды — впрочем, совершенно напрасные — в сердца франкофилов. В союзниках Бестужева долгое время числился и камергер Чоглоков (что же касается его жены, то она приняла сторону канцлера несколько позже); в задачу Чоглокова входило надзирать за великим князем, примечать его слабости и изобретать способы возвратить престол Ивану. Князь Иван Андреевич Щербатов превосходно владел искусством финансовых махинаций. Бывший русский посланник в Англии, он контролировал денежные расчеты между Лондоном и Петербургом: здесь дело шло о крупных суммах, о сомнительных сделках, о тайных финансовых вложениях, на фоне которых не слишком дорогие подарки и не слишком крупные суммы, подносимые французами, выглядели легковесно и несерьезно. Бестужев помог Щербатову сделаться сенатором, чем укрепил свои позиции в борьбе с Лестоком. Наконец, в партию канцлера входил самый цвет армии, что особенно много значило в военное время. Генералы Бутурлин, Апраксин и Ливен принадлежали к проавстрийскому лагерю (исключение на этом фоне составлял старый князь Репнин, придерживавшийся иных взглядов). Все эти генералы начали свое восхождение по служебной лестнице еще при Петре; оказывая мелкие услуги Розенбергу или Гиндфорду, сообщая им украдкой кое-какие сведения о состоянии и размещении войск, они зарабатывали себе существенную прибавку к жалованию. К концу войны за Австрийское наследство поведение русских, к какому бы социальному слою они ни принадлежали, определялось прежде всего их финансовыми отношениями, однако никакие подарки не могли радикально изменить основную расстановку сил: власть принадлежала клану Бестужева. Хотя и Людовик, и Фридрих читали донесения своих посланников, они не смогли вникнуть в особенности русской психологии, не смогли оценить местный девиз: «зима была долгая, а это на языке Московии означает: дайте мне взятку»{285}. А Фридрих из-за ухудшения отношений с Австрией продолжал урезать и без того не слишком большие суммы, какие выделял на подкуп Бестужева в благословенных 1743 и 1744 годах…