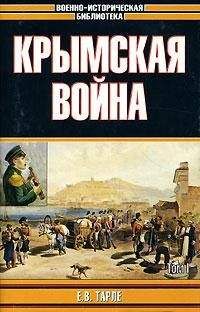2
Позиция английского правительства в этот критический для планов Екатерины момент имела поистине первостепенное значение. Даже если бы Англия осталась просто в позиции враждебного нейтралитета, императрица и Алексей Орлов должны были бы признать полную неисполнимость экспедиции в Архипелаг, потому что союзники турок французы ни за что не пропустили бы русский флот.
Но в том-то и дело, что помимо общих соображений, связанных с постоянным антагонизмом между Англией и Францией, у британского кабинета явилось в тот момент еще одно особое основание, по которому крайне желательно было появление русской эскадры на востоке Средиземного моря.
Англичане стремились всегда, и особенно во второй половине XVIII века, создать себе, кроме морского пути в Индию мимо мыса Доброй Надежды, еще и комбинированный сухопутно-морской путь по Средиземному морю, Нилу, затем сухим путем от Каира к Суэцу и от Суэца морем в Индию. А между тем именно о том, чтобы устроить для французской торговли этот самый путь, сильно думали и французы. Овладение Египтом, номинально принадлежавшим Турции, - вот к чему уже тогда стремилась французская дипломатия. У французов даже создалась оригинальная теория: в благодарность за то, что Франция всячески мешает русским завоеваниям за счет Турции, турки должны уступить французам Египет. «Разве было бы удивительно, если бы Порта согласилась, в знак признательности, уступить нам страну, уже отделенную от (Оттоманской - Е. Т.) империи или, по крайней мере, дать нам право свободного плавания по Красному морю?» - писал анонимный автор «Considerations politiques» в 1783 г.9
Но принялись об этом мечтать французы уже после 1763 г., когда они окончательно должны были уступить англичанам Канаду. «В глазах версальского кабинета Египет был новым полем битвы против Англии; в случае занятия его нашими моряками или при организации прохождения через него наших караванов Египет должен был компенсировать потерю Канады или, по крайней мере, открыть прямой путь в сорок восемь дней из Марселя в Бомбей», - говорит Пэнго, биограф Шуазеля - Гуфье10.
Если мы примем все это во внимание, то поймем без всякого труда, почему Англия была прямо заинтересована в том, чтобы русский флот, явившись в восточной части Средиземного моря, отвлек и французов и турок от Египта к Морее, от интересов в Египте - к заботам о сохранении Архипелага и Балканского полуострова за Портой.
Екатерина все это учитывала и повела беспроигрышную дипломатическую игру.
Как совершенно правильно говорит один новейший английский историк, касаясь этого периода, «Англия, страна коммерсантов, нуждалась в мире, чтобы хорошо шли торговые дела». Не только в 1791 г., но и гораздо раньше дипломатических разногласий, тогда возникших, «нация ясно показала, что верные и непосредственные выгоды торговли брали верх над отдаленными надеждами на политические преимущества. Торговля с Россией была гораздо важнее для английской нации, чем равновесие европейских держав»11.
Подавно это было так в 1769-1774 гг.
Английское правительство прибегло не только к известным демонстративным передвижениям своего флота на путях следования русского флота, но и заявило как в Париже, так и в Мадриде, что «отказ в разрешении русским войти в Средиземное море будет рассматриваться как враждебный акт, направленный против Англии»12.
Известный историк, автор неоднократно издававшейся и у нас классической книги «Влияние морской силы на французскую революцию и империю» Мэхен сначала приводит такие факты, как починка некоторых кораблей русского флота, шедшего в Архипелаг, в английских портах Спитхеде и Портсмуте, потом в Порт-Магоне (тогда принадлежавшем Англии) и т. п., а потом прибавляет, что эти явления «кажутся похожими на сон» позднейшим английским поколениям, помнящим Крымскую войну 1854-1855 гг. или русско-турецкую войну 1877-1878 гг., до такой степени позднейшая англо-русская вражда непохожа на вполне дружественные отношения, царившие между обеими стpанами в 1770 г., когда русские эскадры благодаря этому проходили из Балтийского моря в Средиземное, игнорируя французские и испанские угрозы.
Но русский флот готовил Европе в Архипелаге еще более поразительные «сны»…
Не очень спокойно было на душе у Екатерины при последовательной посылке эскадр Спиридова, Эльфинстона и Арфа в Архипелаг. Не говоря уже о враждебности французов, но и на английское благорасположение императрица не вполне твердо рассчитывала. Ревность, «жалузия» (la jalousie) англичан ее тревожила. «По известной всех англичан без изъятия жалузии ко всяким морским предприятиям других держав, нельзя, правда, ручаться, чтобы они внутренне и на нашу экспедицию без зависти взирать стали, тем больше, что противу ее будет их еще поощрять и некоторое опасение относительно к левантской их торговле…» Так велено было Н. И. Панину отписать русскому послу в Лондон, чтобы тот успокоил всячески британское правительство13.
Предприятие было такое сложное, хлопотливое, такое рискованное, сопряжено с такой массой непредвиденных дипломатических случайностей и военных затруднений и препятствий, что ни адмиралам, ни морякам Спиридову, Грейгу, Эльфинстону, какими бы дельными людьми в своей области они ни были, нельзя было поручить верховное руководство им.
Екатерина знала, к кому ей следует обратиться. Из всех людей, которые помогли ей в свое время совершить государственный переворот, Алексей Орлов не только сыграл наиболее решающую, капитальную роль, но и показал себя человеком, абсолютно ни перед чем не останавливающимся. Ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали, и он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других.
Вот Петр III, которого он с Екатериной низвергли с престола, уже целую неделю сидит в запертой комнате в ропшинском дворце, и императрица не знает, что же с этим опаснейшим для нее арестантом дальше делать. То есть она-то знает, но стесняется сказать. И наперед уверена, что Алексей Орлов один только поймет ее и без слов… Он едет в Ропшу - и за обедом бросается на низвергнутого императора и душит его заблаговременно припасенным ремнем. Проходит тридцать шесть лет, царствует уже третий год Павел, - и граф Орлов в разговоре с Натальей Кирилловной Загряжской все удивляется, как «такого урода» терпят. - «А что же прикажешь с ним делать? Не задушить же его, батюшка?» - с укором замечает Загряжская. «А почему же нет, матушка?» - с искренним удивлением отвечает Алексей Григорьевич. Он был цареубийцей в душе; это было у него вроде дурной привычки, - говорила впоследствии хорошо его знавшая Загряжская (c'etait chez lui comme une mauvaise habitude). Он был гораздо умнее, храбрее, одареннее своего брата Григория Григорьевича, которого несколько лет подряд любила Екатерина и за которого она собиралась даже, по слухам, выйти замуж. Алексея она уважала гораздо больше, чем Григория, и не столько любила, сколько восхищалась его всегдашней и разносторонней оперативностью, - и боялась его. Эту боязнь заметил не только французский посол при русском дворе Сабатье де Кабр, который писал об этом в своем официальном докладе королю Людовику XV, но о том же говорят и другие свидетельства. Чего же могла страшиться всемогущая государыня, бывшая при этом женщиной очень неробкой? Трудно в точности ответить на этот вопрос. Но когда этот огромного роста атлет, этот русский былинный молодец Василий Буслаевич, Лихач Кудрявич входил в дворцовые чертоги, то Екатерина делалась другой, чем до его появления. Она его боялась, по-видимому, потому, что знала, до какой степени сам-то он абсолютно ничего не боится и ни перед чем не останавливается. Ненавидевшая его лично княгиня Дашкова в разговоре с гостившим у Екатерины энциклопедистом Дидро назвала Алексея Орлова «одним из величайших злодеев на земле». Это слишком сильно сказано. Неукротимые буйные силы жили в этом необычайном человеке, но далеко не всегда шли они на дурное. Отблеск чесменской славы озаряет его историческое имя. Он был одарен также и физической неестественной силой. До старости, уже живя на покое в Москве отставным вельможей в своем великолепном дворце, он любил при случае принимать участие в кулачных боях и нередко «ссаживал» при этом молодых бойцов, которым годился даже и не в отцы, а в дедушки. Страшный рубец, пересекавший и обезобразивший все его лицо, был им получен от сабельного удара при одном отчаянном, затеянном им побоище. Его при дворе так и называли по этому признаку «balafre» - непереводимым по-русски словом, происходящим от «1а balafre», что означает «рубец». Но не красотой пробил он себе дорогу к высшим почестям, к неслыханному богатству, и не физической необъятной силой заслужил он такое положение, что в самых трудных случаях он не искал, а его искали, не он просил, а его просили, и просительницей оказывалась иногда самодержавная владычица Российской империи.