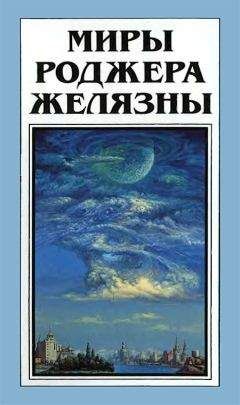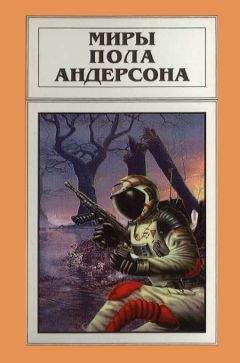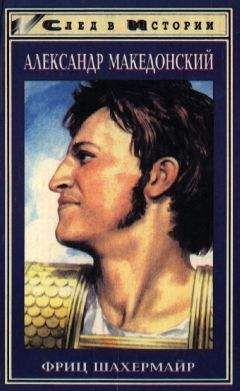это одно, а суровая реальность жизни совсем иное. Среди товарищей он выделял троих, ставших впоследствии успешными офицерами и дипломатами. В 1794 году только шесть кадетов получили звезду отличника; Глинка был среди них, а трое его товарищей не были. «Впрочем, они получили потом звезды на службе, но я их не домогался заслужить; моя звезда блеснула и померкла в стенах корпуса» [Глинка 1895: ИЗ] [180]. Это был важный момент в жизни Глинки. В эпоху, когда вступающему в жизнь русскому дворянину предоставлялись на выбор только два варианта – либо стать помещиком, либо поступить на службу государству, – Глинка не пошел ни по тому, ни по другому пути. Он предпочел редкую в то время стезю профессионального литератора. Если бы он жил в старорежимной Франции, это не вызывало бы никаких затруднений. В России было иначе. И к тому же это была не та профессия, к которой он готовил себя. Он выбрал это занятие под нажимом обстоятельств, свято веря в благодетельную силу Провидения. В первое десятилетие после окончания корпуса в 1795 году жизнь казалась Глинке бесцельной, он старался не нарушать привитых ему в корпусе этических принципов и боролся с разочарованием, вызванным невозможностью использовать полученное им блестящее образование для построения карьеры.
1 января 1795 года выпускнику кадетского корпуса Глинке было присвоено звание лейтенанта [181]. При обучении там он практически не покидал Петербурга, и сразу после выпуска впервые за все это время поехал домой, в Смоленскую губернию, чтобы встретиться наконец лицом к лицу с «Россией». По пути он читал запрещенное цензурой «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, а перед этим прочел историческую драму одного из своих преподавателей, Я. Б. Княжнина, «Вадим Новгородский», также запрещенную из-за содержавшейся в ней критики абсолютизма [182]. Глинка всегда сентиментально превозносил внутреннее благородство простых людей, но в его описаниях их жизнь не предстает такой юдолью нищеты и бесправия, как у Радищева. Кадетский корпус дал ему лишь самое общее представление о русской истории, однако пробудил в нем активное романтическое воображение, и данное путешествие подтолкнуло его в новом направлении: «Главным впечатлением юности моей почитаю то, что в первый проезд мой из училища на родину я <…> вычитывал душу народа не из книг, но под сводом неба и прислушиваясь к душе русского слова. Вот что было впоследствии основанием “Русского вестника”» [Глинка 1895: 135]. Но в тот момент националист в нем еще не пробудился. В уме его царила Европа, и состоявшееся в марте первое посещение Москвы не произвело на него особого впечатления: куда ей до Рима или Афин! [183]
Тут необходимо небольшое отступление о воспоминаниях Глинки, которые служат основным источником сведений о нем. В отличие от мемуаров Шишкова, написанных самоуверенным тоном, но без утайки регистрирующих все происходящее, «Записки» Глинки напоминают сентименталистский «роман воспитания». Главный герой, проведя невинное детство в деревне, сначала переживает процесс духовного самопознания (в кадетском корпусе), а затем путешествует наяву и в воображении, находясь в поиске своего жизненного предназначения и обретя его в качестве журналиста – пророка русского национального возрождения. Несколько томов его воспоминаний – это тщательно сконструированное литературное произведение, которое описывает этапы его собственной биографии и более масштабные проекты божественного Провидения, осуществленные в 1812 году. Хотя, конечно, безоговорочно доверять всему, что изложено Глинкой в его «Записках», нельзя, они все же служат важным биографическим источником – по двум причинам. Во-первых, Глинка был честен. Зачастую он принимал желаемое за действительное, но вряд ли стал бы целиком сочинять те или иные эпизоды. Во-вторых, идеи, которые он высказывает в «Записках», опубликованных в 1830-е годы, в целом повторяют то, что он писал в «Русском вестнике» в 1808–1812 годах, так что можно считать, что независимо от фактической точности воспоминаний Глинки они отражают его мироощущение в рассматриваемый период.
Летом 1795 года Глинка едет в Москву, чтобы вступить в должность адъютанта князя Ю. В. Долгорукова. «Русское было далеко от моих мыслей, – признается он впоследствии, – а в настоящем затерялся я в области так называемого большого света, так же далеко от древней Москвы и от старобытной России» [Глинка 1895:146]. Он завел друзей в театральных и литературных кругах, которые поощряли его в его первых поэтических опытах. Жизнь стала открываться ему и с изнанки, о которой преподаватели кадетского корпуса умалчивали, – в частности, он увидел нравственную распущенность аристократии и ее презрительное отношение к более низким слоям общества [Глинка 1895: 146, 153–164, 175]. Международная политика не вызывала особого интереса у Глинки и его друзей, но войну с Францией он не одобрял. Наполеон захватил его романтическое воображение со времен Египетского похода. Долгоруков был против того, чтобы русские помогали англичанам воевать с французами, и, хотя Глинка восхищался Суворовым, он рассматривал его Итальянский поход как попытку Австрии и Британии использовать Россию в собственных интересах [Глинка 1895:166,175,182,194]. В 1799 году его батальон направили на поддержку Суворова, но в этот момент было решено свернуть эту кампанию, и они вернулись в Москву.
Для пополнения доходов Глинка начал переводить либретто иностранных опер. Но армия оставляла ему слишком мало времени для этого занятия, и 30 октября 1800 года Глинка ушел в отставку – уже в чине майора [184]. Служба в армии не давала ему финансовой независимости и не позволяла осуществить желание внести свой вклад в развитие общества. Владение крепостными тоже никак этому не способствовало. Когда один из богатых друзей предложил ему дарственную на 60 крестьянских душ, Глинка порвал бумагу и заявил: «Не возьму; я никогда не буду иметь человека как собственность, и притом не понимаю сельского быта» [Глинка 1895: 177] [185]. Таким образом, он отверг два пути, традиционных для русского дворянина: государственную службу и землевладение – и предпочел вместо этого, подобно интеллигентам более поздних поколений, зарабатывать собственными силами.
Следующие несколько лет он плыл по течению, перебиваясь случайными заработками. Он работал для театра и даже сочинил оперу, но этого было мало, чтобы обеспечить свое существование. Сначала, выйдя в отставку, он поселился было в отчем доме, но после смерти родителей ничто его там не удерживало. Перед смертью матери в 1801 году Глинка пообещал ей позаботиться о сестре и уступить ей свою долю наследства, и, хотя он не выступал публично с осуждением крепостничества, он был рад избавиться от своих крепостных: «Я отдал крестьян как будто бы бремя, тяготившее меня. Люблю человечество, но людьми править не умею» [Глинка 1895:187]. Осенью 1802 года он вернулся в Москву,