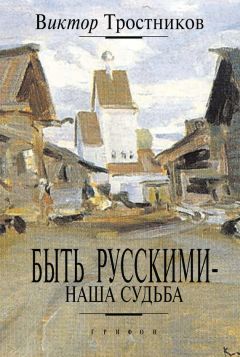Диссиденты представляли собой довольно разношёрстную публику. Зачинщиками движения были алчущие правды, оставшиеся без пищи, но к ним пристроилась масса попутчиков, решавших свои личные проблемы – в основном как «слинять» за границу, причем желательно хлопнув дверью и не с пустыми руками. Свергли социализм все диссиденты вместе, но нас здесь интересуют, конечно, честные инакомыслящие, не только не искавшие каких-то выгод от своих выступлений, но даже готовые пострадать, чтобы только обрести смысл своего существования. Ведь только они, а не кто другой могут донести до нас своими размышлениями метафизическую суть семидесятых и восьмидесятых. Но тут есть одно условие: это должны быть размышления именно того времени, ибо лишь они сохраняют аромат эпохи, в воспоминаниях улетучивающийся.
Нам повезло, такой текст у нас есть. Он принадлежит довольно активному диссиденту того времени, преподавателю вуза. Написан он в 1981 году.
Сидеть бы мне, философу, и философствовать. Куда как славно! Возьмёшь какие-нибудь там категории, покрутишь их, столкнёшь с другими категориями покрепче, вспомнишь, что говорили о них Кант и Владимир Соловьев, и дело сделано. И самому интересно, и редакторы журналов довольны. Правильно мама мне когда-то говорила: «Учись, Вадик, а то землю копать придется». Послушался я маму, выучился и безо всякой лопаты умею теперь копаться, и не в песке и в глине, а в основах всего сущего. Что этим основам может помешать – они всегда на своем месте, подходи и начинай работу, без дела сидеть не будешь. А вот оказалось, что и этому может нечто помешать – наша жизнь, та самая коллективная экзистенция, которая никак не даёт о себе забыть. Чуть от неё отвлечешься, как она тут же болезненно о себе напомнит. Чуть пригреешься, как она обрушит на тебя холодный ветер, а поскольку это бывает довольно часто, то ход твоей биографии постепенно меняет своё естественное направление и, как северное деревце, примостившееся на скалах, начинает расти куда-то вбок. И вместо того, чтобы вдумываться в вечные истины, ты начинаешь наблюдать за окружающими тебя людьми и удивляться: ведь они по внешности люди, так почему же ведут себя не по-людски и поступки их не подчиняются никакой логике?
Но философ и в зоне сильных ветров остается философом. Чуть стихнет шквал, он возобновляет свои обобщения и перерабатывает всё, что сыплет на него непогода, в метафизические суждения. Но сравните условия, в которых он это делает, с теми, в которых работали Кант и Владимир Соловьев, сидевшие и спокойно рассуждавшие. Впрочем, независимо от того, какое значение имеют его обобщения для общества, он не может их не делать.
Я именно такой и был таким с детства. Меня можно посадить в тюрьму или казнить, но переделать невозможно. Как бы ни советовали умные люди образумиться, не витать в облаках, плюнуть, я всё равно время от времени буду погружаться в неподвижность и мучительно пытаться соединить в своей голове какие-то мысли. Я просто не умею жить иначе. Я не знаю, хорошо это или плохо, – скорее всего, плохо. Это не преимущество, а недостаток, не наличие, а отсутствие, но что делать, другим я стать не могу.
Так вот, в настоящий момент для меня оказались объектами осмысления четыре человека, которых мне пришлось наблюдать, и одно событие моей биографии. Имена этих людей я буду называть по мере развития сюжета, а событие, осмыслить которое я чувствую необходимость, состоит в том, что меня уволили с работы.
Началось всё с моего участия в качестве одного из двадцати трёх авторов в самиздатовском альманахе. Впрочем, сначала мы его подали в Главлит, но вскоре стало ясно, что разрешения на его опубликование там не дадут. И тут наша, греющаяся в лучах советской власти писательская элита начала бурную деятельность по предотвращению напечатания альманаха за границей, которое она, конечно, предвидела.
Обобщения мы с вами будем делать дальше, а пока начнём накапливать для них материал в виде фактов и вопросов.
Факт первый. Руководители Союза писателей панически перепугались того, что в каком-нибудь американском издательстве ничтожным по нашим меркам тиражом выйдет сборник, содержащий рассказы и статьи советских авторов, предлагавшиеся для опубликования внутри страны, но по разным причинам не принятые. Отсюда наш первый вопрос: почему они этого так испугались?
Большинству моих соотечественников этот вопрос покажется смешным. Они скажут: «Да ты что, с луны свалился? Или ты не знаешь, что у нас таких вещей пуще огня боятся?» Это так, но это ни в малейшей степени не есть ответ. Наш вопрос начинался со слова «почему», нас интересовала причина явления, а тут даётся лишь его описание. «Ясна и причина, ' – скажут житейские мудрецы, – секретарь Союза писателей не хочет слететь со своего поста». Может, это так. Но тогда возникает недоумение. Союз писателей есть общественная организация, назначение которой состоит в том, чтобы защищать интересы входящих в него писателей, в частности, отстаивать их право публиковаться. Последнее особенно важно, так как другого заработка, помимо гонораров, у них нет. Но в таком случае секретарь Московского отделения Союза писателей СССР никак не должен был восстать против сборника, ибо он был составлен в русле борьбы за возможность публиковаться. Устав от бесконечных придирок и рогаток, двадцать три писателя решили: раз эти наши вещи не печатают здесь, пускай их напечатают хотя бы там. Однако человек, который по своей должности обязан был бы их поддержать, занял по отношению к ним самую враждебную позицию. Кстати, пора назвать его имя. Имя первое: Феликс Феодосьевич Кузнецов. Этот человек открыто выступил против интересов писателей. И не только не боялся потерять своё место профсоюзного лидера, но даже надеялся этим его укрепить. Что это может означать?
Опять я слышу голоса знатоков: «Да это и ежу понятно: Союз писателей только считается…» Знаю, знаю, хоть я и философ, но не настолько всё-таки глуп, чтобы не знать: союз этот лишь считается исполняющим волю своих членов, а на самом деле целиком подчиняется государству, и он есть никакой не профсоюз, а обычное советское учреждение типа министерства. Но вот это-то и есть предмет моих размышлений. Вдумайтесь: Союз писателей считается общественной организацией, а на самом деле есть министерство. Но ведь «считается» всегда кем-то. Например, воспитанными людьми считается неприличным находиться в помещении в головном уборе. Или: у деревенских считается, что от жабы бывают бородавки. А в нашем случае нет ни одного человека, который думал бы, что Союз писателей есть общественная организация.
Но языковое чутьё подсказывает, что слово «считается» здесь вполне уместно. Просто в нём появился новый смысл, очень характерный для современной России. Оно выражает не ту ситуацию, когда одни люди думают одно, а другие – другое, а ту, когда все люди думают одинаково, но в одном месте говорят одно, а в другом месте другое, и то, что они все говорят в другом месте, – это «считается». Это есть ложь, и все это знают. «Считается» означает у нас то, во что никто не верит, но все делают вид, будто верят.
Пойдем дальше. Если Союз писателей есть простое государственное учреждение, то в лице Феликса Кузнецова сборника, который может быть опубликован за границей, испугалось государство, то есть «система». Почему же? Антисоветской агитации в нём не было, военные тайны не выдавались. Тем не менее испуг был очень велик. Это странное обстоятельство может пролить свет на некоторые секреты нашей системы.
Власть ударилась в панику по двум причинам. Во-первых, предприятие двадцати трёх было коллективным действием, а такие действия у нас обязательно должны организовываться сверху, а не снизу. Во-вторых, в предисловии было сказано, что в сборник вошли произведения, не прошедшие в Советском Союзе цензуру. Это означало, что, если сборник будет опубликован на Западе, получится вынесение сора из избы: все узнают, что у нас нет свободы слова, хотя считается, что она есть.
Давайте извлечём отсюда вывод и запомним его: нашей системе очень важно, чтобы внешние по отношению к ней люди всерьёз принимали то, что у нас «считается», и думали, будто это реальность.
А теперь вернёмся к цепи событий. Узнав о готовящемся издании альманаха за рубежом и похолодев от ужаса, Феликс Кузнецов стал думать, как это предотвратить. Для этого был один способ: обработать кого-нибудь из участников, чтобы заставить его выйти из сборника и построить на этом дискредитирующую кампанию в прессе. И вот на каждого из двадцати трёх участников была предпринята отдельная персональная атака. Всех применявшихся в ней средств не перечислить. Одному говорили: вы же русский, зачем вам примыкать к этому еврейскому кагалу! Другого укоряли: вы же еврей, как же вам не стыдно быть в одной команде с этими махровыми антисемитами! Третьим доверительно сообщали: инициаторы альманаха подняли весь этот шум только для того, чтобы стать известными на Западе и потом туда эмигрировать, а вы по своей наивности поверили, что это действительно борьба за свободу слова! В общем, на кого действовали кнутом, на кого пряником. Что же касается меня, то в институт, где я был доцентом на одной из ведущих кафедр, прислали, как это у нас называется, «телегу» – донос, соединённый с требованием наказать. Прислал её всё тот же Феликс Кузнецов, а попала она к секретарю институтской партийной организации, чьё имя и будет в нашем списке вторым. Имя второе: Александр Аполлонович Выгнанов. Он вызвал меня к себе в кабинет и больше часа с грозным видом выговаривал мне за то, что я, воспитатель молодежи, участвую в таком грязном начинании, как «тамиздатовский» альманах. Когда я ответил, что прочитал весь сборник и не нашёл в нем ничего предосудительного, Выгнанов заглянул в кузнецовскую телегу и привёл доказательства того, что альманах явно антисоветский. Одним из аргументов был тот, что в нем участвует американский писатель Апдайк. В конце разговора он потребовал от меня выхода из сборника. Чтобы потянуть время, я обещал подумать, и этот ход оказался удачным, так как потом к этому разговору до поры до времени никто не возвращался. Но, конечно, я понимал, что моя судьба, в принципе, решена – ждали лишь удобного случая. И наконец он представился. Весной 1981 года по институту прошло сокращение штатов, и первым на нашей кафедре попал под него я. Так произошло моё увольнение, и институтское начальство, у которого около года было неспокойно на душе, облегчённо вздохнуло.