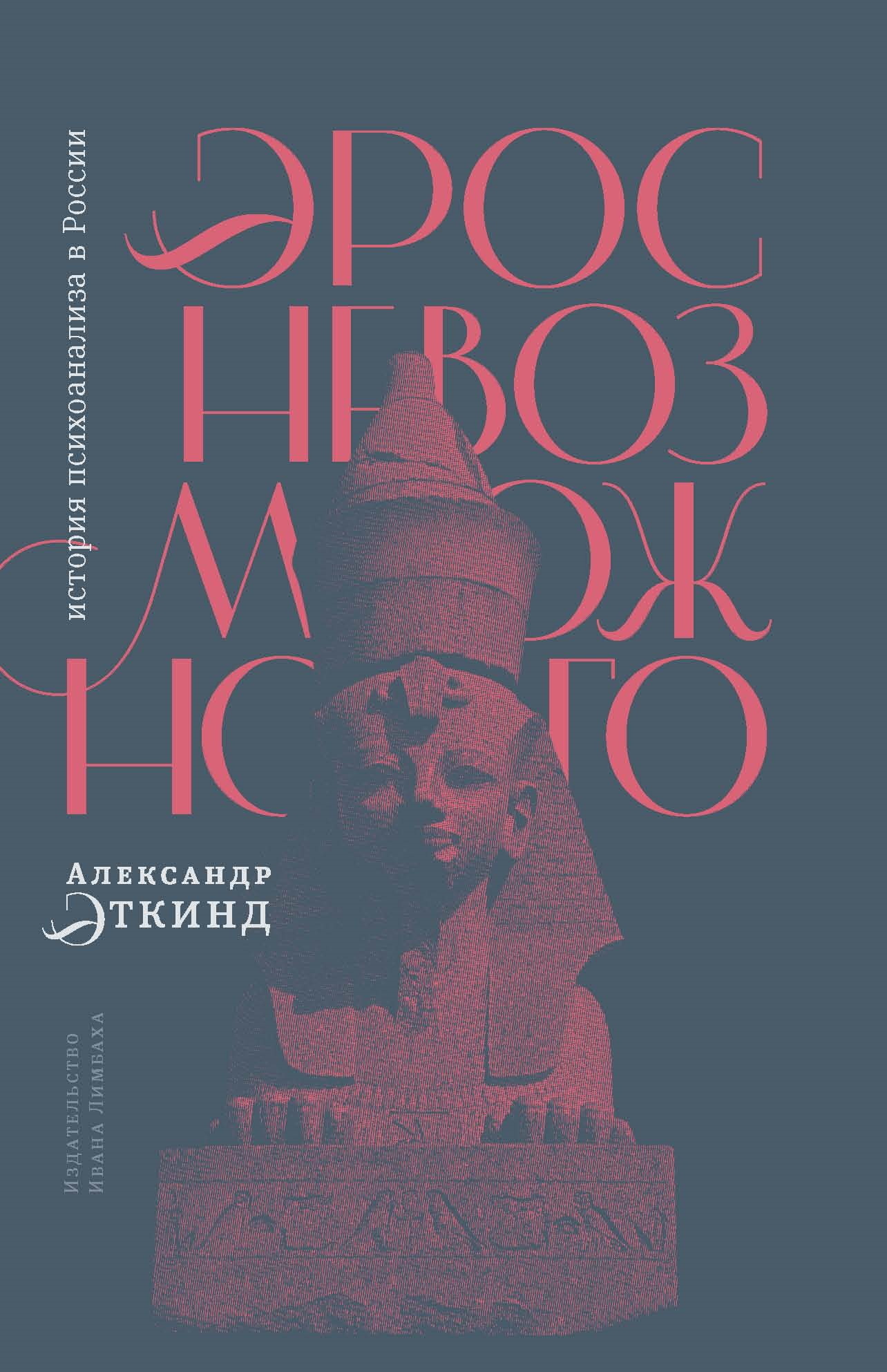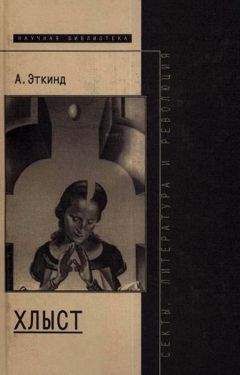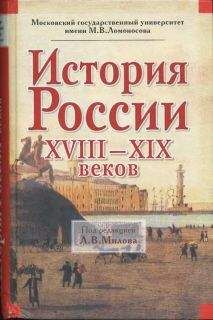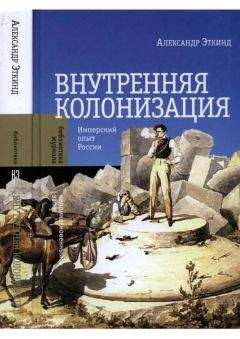сухим клиническим описанием. В нем, однако, то и дело прорываются эмоционально окрашенные моменты. Перед нами случай, выбранный Фрейдом из множества других, тоже интересных и важных. Почему основатель психоанализа выбрал историю Сергея П. для своей монографии? Случайно ли то, что его любимым пациентом, как и его любимым писателем, был русский? Не свидетельствуют ли упоминания о «характерных русских чертах», рассеянные в текстах Фрейда, о том, что, подобно тому как Панкеев «отдавал предпочтение немецкому элементу» (и это, по словам Фрейда, «создало большие преимущества переносу в лечении»), Фрейд испытывал тяготение к «русскому элементу», и русский материал давал ему определенные преимущества в понимании и изложении?
В конце концов, характерные черты русских, на которые указывает здесь Фрейд, – амбивалентность, сделки с совестью, бисексуальность – являются характерными чертами всех невротиков. Возможно, Фрейд полюбил Панкеева и Достоевского потому, что у них, в силу неких известных ему русских особенностей, универсальные механизмы бессознательного оказались более доступны пониманию. Подобное представление о русских как о существах, необычно близких к бессознательному, было распространено в восприятии русской культуры как извне, так и изнутри ее. Рильке считал, что «настоящие русские – это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете», и видел в России страну вещих снов40. Александр Блок, в стихах которого сны встречаются не реже, чем в анализах Фрейда, в 1911 году писал Андрею Белому: «В этих глубоких и тревожных снах мы живем и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны»41.
В том же 1918 году, когда Фрейд приступал ко второму анализу Панкеева, Блок пишет свое знаменитое стихотворение «Скифы», которое сегодня кажется столь же талантливым, сколь и странным. Блок сравнивает Россию со Сфинксом, а европейский Запад – с Эдипом. Бесполый и вечный, как всякий сфинкс, этот ужасен более всего своей любовью. Обращаясь к Западу-Эдипу, Блок пишет:
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью.
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!42
Эта метафора обратна привычной фрейдовской, в которой активен и амбивалентен Эдип; здесь его качества приписываются Сфинксу. Образ сфинкса был популярен, и русским нравилось именно так интерпретировать классическую ситуацию, идентифицируя себя не с Эдипом, а со Сфинксом. Вячеслав Иванов писал о том же: «Себе самим мы Сфинкс единый оба». Но Блок идет гораздо дальше.
Блоковская Россия соотносится с Западом подобно тому, как фрейдовское бессознательное соотносится с сознанием: не знает времени («Для вас – века, для нас – единый час»); нечувствительна к противоречиям («ликуя и скорбя» и т. д.); не имеет меры и предела («Мильоны – вас. Нас – тьмы»); не знает различения, забывания, вытеснения («Мы любим все… Мы помним все… Мы любим плоть»); и нарциссически смешивает «я» с «мы». Более всего, несколько раз подряд, акцентирована амбивалентность чувств: ненависть и любовь, ликование и скорбь сливаются воедино. Такая любовь, которая забыта западным человеком, ведет к смерти:
Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Итак, главная загадка русского Сфинкса – амбивалентность в любви, присущая диким скифам и непонятная западному человеку. По сути дела, Блок, как это ни удивительно, имеет в виду практически то же, о чем Фрейд писал Цвейгу, говоря, что амбивалентность чувств есть наследие первобытности, сохранившееся у русских больше, чем у других народов.
Фрейд писал о том, что амбивалентность свойственна даже тем из русских, которые не являются невротиками. Идея «Скифов» зрела у Блока как раз тогда, когда Юрий Каннабих обнаружил у него неврастению и поэт лечился бромом. Пятнадцатью годами раньше, на заре своих отношений с будущей женой, которые складывались у него вряд ли легче, чем у Панкеева, Блок уже чувствовал в себе и вокруг себя, как «в крайне резких и беспощадных чертах просыпается двойственность каждой человеческой души, которую надо побеждать». Блок подчеркивал здесь слово «каждой», подразумевая не болезненный, а общераспространенный характер тревожившей его двойственности. Но тогда (в противоположность своему позднему, революционному периоду) Блок все же был далек от того, чтобы гордиться ею; наоборот, ее «надо побеждать», и «всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба», в результате которой к счастью «нужно прийти так или иначе сознательно»43.
В те же месяцы между двумя революциями страдал от тяжелого нервного расстройства Михаил Чехов. Его лечили психиатры, гипнотизеры и психоаналитики, но в конце концов выдающийся актер сумел помочь себе сам (см. гл. IV). Он так описывает свое самоощущение, с помощью которого, по его мнению, он вышел из кризиса: «Я воспринимал доброе и злое, правое и неправое, красивое и некрасивое, сильное и слабое, больное и здоровое, великое и малое как некие единства… Я не верил прямым и простым психологиям… Они не знали, что быть человеком – это значит примирять противоположности».
Этому поистине «скифскому» определению человека научила Чехова, как он считал, сама русская жизнь с ее контрастами. Например, когда он был школьником, семья контролировала каждый его шаг, но отец-алкоголик, писавший книги о вреде пьянства, давал ему три рубля на проститутку. Полезным было и чтение Достоевского. Андрей Белый похоже выводил свою «диалектику» из детской своей потребности преодолеть «ножницы» между собой и родителями, между отцом и матерью, между разными авторитетами44. Такая «диалектика», примиряющая и смешивающая противоположности жизни, будто они не существуют, – это и есть амбивалентность чувств, так удивлявшая Фрейда в русских. Пройдет не так уж много времени, и именно «диалектика» станет логической основой и интеллектуальным оправданием советской государственности.
Вообще, специфические мотивы, которые Фрейд внес в описание случая Панкеева, ощутимо перекликаются с основными мотивами «русской идеи», которые звучат в романах, поэмах и философских трактатах, написанных соотечественниками Панкеева как раз в годы его детства и молодости (см. гл. II). Это и рационалистическая критика религии, уживающаяся с неопределенным мистицизмом; и фиксация на проблемах смерти и возрождения; и необычная сосредоточенность на проблемах гомосексуализма, содомии, андрогинии; и удивляющая наблюдателей интенсивность духовной жизни одновременно с жалобами на недостаток реальных социальных интересов…
Мы не знаем и никогда не узнаем, что на самом деле происходило в душе Панкеева, описанной Фрейдом, так же как вообще в русской