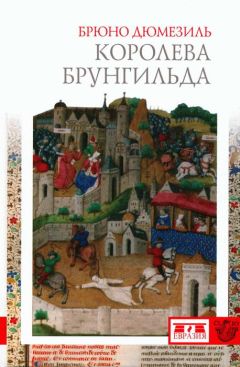Чтобы устранить подобную опасность, Сигиберт I умел также использовать одну аристократическую группу против другой. Так произошло, когда после смерти Ницетия, вскоре после 566 г., официальная должность церковного советника короля стала вакантной. Новый епископ Трирский, Магнерих, был достойным человеком; но он оказался столь же близок к Лупу и Гогону, как прежде Ницетий. Поэтому король предпочел оказать милость епископу Реймскому Эгидию, доверив ему религиозную политику Австразии. Поддержание враждебных отношений между советниками было для государя лучшим способом не стать рабом ни одной из партий.
Даже при выборе крестных родителей для своих детей Сигиберт не обходился без чередования. Если мы правильно понимаем одно стихотворение, название которого не сохранилось, то крестным отцом, избранным для Ингунды, был Венанций Фортунат, молодой поэт, близкий к Ницетию и Гогону[40]. Зато когда на Пятидесятницу 570 г. крестили Хильдеберта II, над купелью его держал епископ Верденский Агерик; а ведь считалось, что этот прелат симпатизирует партии Эгидия[41]. Таким образом, крестные родители королевских детей принадлежали к соперничавшим аристократическим группировкам, и трудно не усмотреть в этом продуманного замысла. Добавим, что в обоих случаях Сигиберт выбрал личностей примечательных — блестящего писателя, епископа, уважаемого коллегами, — нов политической жизни королевства стоявших на втором плане. Когда оба этих человека породнились в духовном отношении с королевской семьей, это не сделало никого из них опасным.
Роль короля в качестве арбитра по отношению к магнатам, конечно, удивила Брунгильду как вестготскую принцессу. Только чрезвычайно стабильное положение меровингского рода позволяло Сигиберту I встать над партиями. У вестготов династический принцип все никак не мог укорениться. Сменявшие друг друга государи были вынуждены проявлять благосклонность к группировке, посадившей их на трон. Поэтому король Толедо оставался ставленником партии, который благоволил друзьям во время царствования, пока его наконец не убивали враги. У франков ситуация была совсем иной: король, конечно, должен был заботиться о своей аристократии, но он по крайней мере мог доминировать в схватке.
Методы правления Брунгильды в 580-е гг. покажут, что королева многому научилась у мужа. Возможно, она также обратила внимание, что Сигиберт I прибегал к принципу чередования и в дипломатии. Гогон выступал за союз с Гунтрамном, а Эгидий — с Хильпериком? Вот Сигиберт и нападал то на одного, то на другого из своих братьев, чтобы никого не разочаровать.
ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ В REGNUM FRANCORUM
Если ловкому меровингскому королю априори было незачем страшиться клик, то у него были все основания опасаться представителей собственного рода. В самом деле, династическая легитимность была обоюдоострым оружием: она лишала магнатов всякой надежды на скипетр, но любому обладателю королевской крови позволяла выдвинуть притязания на королевскую власть. Если при австразийском дворе сановники плели тонкие интриги, то для Regnum Francorum в целом было характерно куда более открытое насилие. Все молодые годы Брунгильды прошли на фоне распрей, обычных для династии Меровингов.
Зависть Хариберта
Мир между четырьмя сыновьями Хлотаря I всегда был очень непрочным, и с возрастом их амбиции лишь усиливались. Вспомним, что Сигиберт воспринимал свой брак с Брунгильдой прежде всего как стратегический ход в войне с братьями, то замаскированной, то открытой. Последние оценили размах притязаний короля Австразии. Теперь им надо было отреагировать на резкий взлет его престижа либо смириться с тем, что их блеск померкнет надолго. Хильперик с его небольшими владениями был пока неспособен подняться до уровня Сигиберта. Гунтрамн мог бы ответить, но предпочел стерпеть обиду; тем самым он впервые выказал склонность к политике выжидательной, хоть и не лишенной продуманности — и такая политика останется свойственной для него до конца жизни.
Один Хариберт решил принять идеологический и культурный вызов, который франкскому миру бросила свадьба Сигиберта. Несомненно по совету епископа Германа Парижского он пригласил в свое королевство Венанция Фортуната и заказал ему панегирик величию своего царствования. Италийский поэт, оставшийся без дела после перехода Брунгильды в католичество, выполнил эту задачу талантливо и ловко. Он прославил в лице Хариберта величайшего из франкских королей, забыв, что несколько месяцев назад такими же словами приветствовал Сигиберта.
Помимо ожидаемых топосов, в этом новом дискурсе автор развил несколько важных пропагандистских положений. Утверждалось, что Хариберт — единственный настоящий наследник своего дяди Хильдеберта I, судя как по территориям, над которыми он царствовал, так и достоинствам, которые он выказал. Это значило, что он лучший государь династии. Для того, кто мог бы в этом усомниться, автор приводил пример Вультроготы, вдовы Хильдеберта, которую Хлотарь I в свое время изгнал, а вот Хариберт осыпал почестями. Фортунат, кроме того, напоминал, что король Парижа — старший из четырех братьев; только в нем возродился политический ум отца. Что касается монарших и христианских добродетелей, их у Хариберта в избытке: он добр, как Траян, справедлив, как Соломон, милосерд, как Давид, никто не имеет оснований на него посетовать. Правда, новый король Парижа не одержал ни одной существенной победы в бою, а ведь ссылка на военную славу по-прежнему оставалась обязательной для любого панегирика. Фортунат, недавно воспевший воинские доблести Сигиберта, оказался в несколько затруднительном положении. Чтобы выпутаться из него, он восславил не слишком воинственный характер Хариберта как достоинство, особо подчеркнув, каким экономическим процветанием обязано этой черте королевство: «Ваши предшественники <…> расширили границы отечества силой оружия, но проливали кровь соотечественников; вы, царствуя без того, чтобы наносить кому-либо поражение, добьетесь большего»{195}. Италийский поэт также чувствовал, что в Париже завидуют культурному престижу мецского двора. Чтобы восстановить равновесие, он без тени смущения заявил, что Хариберт говорит по-латыни лучше многих римлян. Оставалось только превознести красоту государя — отражение его доброты, и Фортунат мог на этом завершить похвальное слово одному из худших врагов предыдущего заказчика.
Однако, в отличие от Сигиберта, Хариберт весьма мало напоминал идеального правителя, описанного Фортунатом. Может быть, потому, что из четырех братьев он действительно был больше всех похож на Хлотаря I. Как и тот, он вовсю практиковал то смешение брака и наложничества, которое иногда называют «серийной моногамией»{196}. Сначала он женился на некой Ингоберге, которая принесла ему двух дочерей, Берту и Бертефледу[42]. Потом он увлекся дочерью ремесленника-шерстобита Мерофледой. Ингоберга, не желавшая делить мужа с новой фавориткой, была изгнана. Потом, пресытившись новой супругой, король одарил своим расположением дочь пастуха Теодогильду, родившую от него мертвого сына.
Из того, что Хариберт вел активную матримониальную жизнь, необязательно делать вывод, что это был сексуально распущенный деспот. Не надо забывать, что король Парижа был уже немолод и что в 567 г., несмотря на очевидные старания, ему так и не удалось зачать мальчика. Гунтрамн и Хильперик, хоть и были младше него, уже давно обзавелись наследниками. А ведь Хариберт отчаянно нуждался в сыне, который бы продолжил его род, хотя бы для того, чтобы сохранить своих «верных»: кто станет поддерживать амбиции государя, королевство которого обречено на исчезновение?
Рождение Ингунды в 567 г. показало, что у Сигиберта и Брунгильды могут быть дети и есть все основания надеяться, что на свет появится сын. Вероятно, это сделало положение Хариберта еще более невыносимым, и король Парижа совершил опрометчивый поступок. Он выбрал себе новую жену — Марковейфу. Некоторые с прискорбием отметили, что Марковейфа — монахиня, но при парижском дворе это никого сверх меры не смутило: старый Хлотарь I поступал и похуже, и то епископы закрывали на это глаза. Настоящую проблему создавал тот факт, что Марковейфа была сестрой Мерофледы, одной из бывших жен короля. Согласно каноническому праву женитьба на близкой родственнице прежней супруги считалась ужасным кровосмешением. А ведь епископы второй половины VI в. полагали, что именно матримониальные запреты отличают христианство от язычества, цивилизацию от варварства. Из-за греха короля небеса могли всерьез разгневаться на его подданных. И действительно Галлию, особенно Парижское королевство, начала опустошать эпидемия{197}.[43]