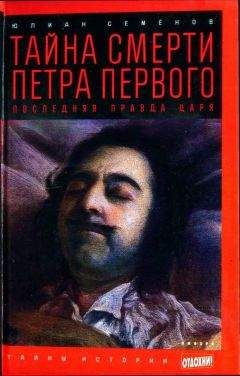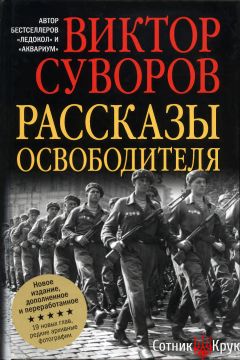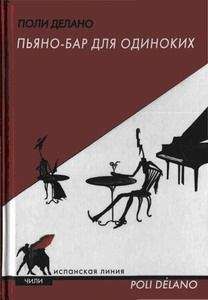- Вы же не стояли у набора.
- А где же я стоял, по-вашему? Но я не навязываю - найдите помещение лучше. С вас такие деньги заломят - ой-ой! Пойдемте, я покажу комнату шеф-редактора.
Он прошел мимо станков, поднялся по разбухшей от сырости деревянной лестнице, толкнул ногой склизлую дверь: в маленькой комнатке было большое, во всю стену, окно, выходившее на реку. Отсюда был виден Вавель, громадный краковский замок, возвышавшийся над городом, и два моста, переброшенные через коричневую, мутную воду.
- Как кабинет? Здесь можно сочинять поэзию, которая останется на века! тяжело отдуваясь, сказал Норовский. - Такой вид чего-нибудь да стоит!
- Сколько вы хотите за аренду?
- Сколько я хочу за аренду? - переспросил Норовский. - Это зависит от того, что вы здесь намерены печатать, пан Доманский.
- Какое отношение это имеет к оплате?
- Прямое. Если вы начинающий поэт и решите печатать вирши, я возьму одну плату, - начал перечислять Норовский, - если вы, к примеру, задумаете выпускать крапленые игральные карты и не станете регистрироваться в австрийской полиции, я запрошу совсем другую цену; если вы хотите издавать для контрабандной спекуляции учебники на польском языке, запрещенном в школах Польши, я пойду советоваться к юристу.
- А если я хочу выпускать ту литературу, которая поможет Польше учить своих детей на родном языке? - спросил Дзержинский.
- Тогда я вообще не сдам вам помещение.
- Почему?
- Потому что мы никогда не сможем учить наших детей польскому языку в школах, покуда есть Россия, Пруссия и Австро-Венгрия.
- Смотря какая Россия, какая Пруссия и какая Австро-Венгрия.
- Не тешьте себя иллюзиями, пан Доманский: только малое меняется; большое всегда останется большим. После восстания я отгрохотал на русской каторге три года, а потом два года мотался по здешним тюрьмам: австрияки меня посчитали русским лазутчиком.
- Вы были повстанцем шестьдесят третьего года?
- Знамена, пьяный ветер свободы, лозунги... Где все это? Будто и не было. Каждому на жизнь дается только одна революция, потом наступает горькое похмелье. Лучше приспосабливаться, пан Доманский, лучше приспосабливаться. Пусть другие начинают: примкнуть никогда не поздно; отойти - сложней. Все наши беды проистекают оттого, что не умеем сдерживать порывы, не ценим устоявшееся; н а д е ж н о с т ь не сознаем за высшее благо.
- Ну, хорошо, а если я не внемлю вашим советам? - сказал Дзержинский. Сколько вы с меня заломите?
- С террором дело не связано? С призывами против русского царя?
- С призывами против русского царя связано, с террором - нет.
- Не хочу лишних хлопот. Царское Село заявит протест Вене, а отвечать придется Збигневу Норовскому: сильные мира сего расплачиваются за свой идиотизм жизнями маленьких людей, пан Доманский.
- Никто не будет знать, что мы здесь работаем. Если захотите, можно будет предъявить властям несколько книг. Мы издадим книги о том, как живут наши братья в Варшаве...
- Кто станет писать такие книги для вашей типографии? Такие книги издадут в Вене, у "Момзена и Фриша", а не у вас, пан Доманский. Или в Берлине - там помогут социалисты Либкнехта. Чем вы станете платить за хорошие книги о плохой жизни?
- Неужели вам не хочется помочь? Это ведь так просто - помочь. А как п о л н о вам станет жить, пан Норовский, если вы постоянно будете ощущать, что помогли. Отчего так счастлива кормящая мать? Оттого, что п о м о г а е т. Поэтому у нее глаза особенные, других таких нет.
- Как я понимаю, денег у вас мало?
- Денег у нас пока нет, - ответил Дзержинский. - Но они будут. Мы уплатим вам.
- Сколько человек станет здесь работать?
- Один.
- Кто?
- Я.
- Вы наборщик?
- Нет. Я пишу.
- Все пишут. Кто будет набирать? Верстать? Печатать?
- Дам объявление.
- Он даст объявление! Кто пойдет умирать в этот компресс?! - Старик вздохнул. - Конечно, в этот компресс пойдет один Норовский. Но за деньги! Понятно?! Я помогу, но за деньги! Жадный Норовский без денег не помогает, потому что у него на шее четверо внуков-сирот! И убогая дочь! Или вам не понятно, отчего я такой жадный?!
Норовский отошел к окну, уперся руками в раму.
- Зачем вы пришли? - тихо спросил он. - Мне было так спокойно эти годы. Зачем только вы пришли, хотел бы я знать? И зачем я остался таким же дураком в шестьдесят, каким был в двадцать?
- Это потому, что вы живете, пан Норовский. Живете, а не существуете.
...Следующие три дня Дзержинский, после того как кончал помогать рабочим, приглашенным Норовским для уборки помещения, садился за книги, газеты, письма из Королевства. Он должен был до конца точно понять, каким обязан стать первый номер газеты польских пролетариев. Из всей массы материалов - нищета рабочих, отсутствие какого бы то ни было законодательства, бесправие крестьян, всевластие русской администрации в Варшаве - надо было отобрать главные, определяющие лицо будущей газеты.
Особенно надолго он задумывался - обхватив голову сильными пальцами, словно бы впиваясь ногтями в кожу, когда в который раз уже перечитывал данные о народном образовании. На всю Польшу "русского захвата" был один университет - один на семь миллионов населения! И в этом единственном университете всего две кафедры, где преподавание велось по-польски - литература и морфология. При этом курс, посвященный Мицкевичу, Ожешко, Словацкому, был практически сведен к минимуму, имена великих мыслителей назывались лишь, но творчество их не исследовалось: "Дзядов" боялись, запрещали декламировать; проецируя далекое прошлое на день сегодняшний, считали, что оберегут от крамолы, не понимая, что запрещенное не оберегает, но, наоборот, возбуждает к знанию. Польское право, имевшее многовековую историю, изучали на русском, поверхностно, пропуская целые эпохи; математику, физику, химию - подавно. Польским ученым нечего было делать в Королевстве, бежали в Париж и Лондон от "моральной нагайки" великодержавного черносотенства. Ни одного польского исследователя - пусть семи пядей во лбу (Мария Складовска-то в Париже состоялась, не на родине!) - в ассистенты не пускали, не то что в доценты. Когда талантливые ученые обратились с просьбой к генерал-губернатору позволить читать лекции в университете на родном языке по тем предметам, которые были не обязательными, факультативными, их, продержав пять часов в приемной, грубо выставили, пригрозив Сибирью, коли еще раз посмеют "дерзить" и поднимать голос на единственный для всей Империи язык - других нет, не было и не будет!
Дзержинский тянулся рукой к куреву, вертел в холодных пальцах тонкий "зефир", крошил черный, проваренный с медом табак, но усилием воли заставлял себя прятать папиросу в пачку: к своему здоровью он относился отстраненно, как к некоей данности, ему не принадлежавшей, - больной, что он сможет сделать для партии, какую пользу принесет полякам?!
Лицо его болезненно морщилось, когда он исследовал политику царского правительства по отношению к начальным школам: преподавание велось только на русском; несчастных семилетних человечков, привыкших дома говорить на родном языке, пороли и ставили "на горох" за акцент. Частные школы, где часть предметов позволялось изучать по-польски, были лишены дотаций; попечителями туда назначались, как правило, "хранители", ненавидевшие "ляхов" глубинной ненавистью темных, малограмотных держиморд.
В судах неграмотный польский крестьянин обязан был держать ответ на русском языке; бедолагу обирали секретари, поднаторевшие в писании кассаций и жалоб; прошение, составленное на польском, к рассмотрению не принималось: изволь только на государственном языке излагать, на родном - ни-ни!
Запрещались представления драмы и комедии на польском; книги, после жестокой цензуры, издавались тиражом ограниченным; Людвиг Шепаньский, выпускавший "Жице", печатал повести и стихи эстетские, проникнутые надмирным индивидуализмом - ему р а з р е ш а л и, этот не опасен; позволяли и Станислава Пшибышевского - "настроенец", он г л а в н о г о не трогал, а вот Болеслава Пруса боялись, каждую страницу на свет смотрели - не прячет ли что между строк: пишет с болью, но не для себя и про себя, а про тех, кто кругом, и не для эстетов - для читателей. Послушным критикам было предписано творчество этого мастера не замечать - будто и нет, а то и побранить за туманность и "эпигонство" - термин-то уж больно хорош, ибо непонятен, с непонятным каждый согласится, кому охота себя дураком и неучью выставлять?!
Всем этим великодержавным царским бесстыдством пользовались разного рода оппозиционные группы в Польше - каждая по-своему. Партия "разумной политики", иначе именовавшаяся "реалистической", предлагала разъяснительную, постепенную работу с петербургской администрацией, уповая на "здравомыслящие силы, стоящие подле Трона нашего обожаемого монарха, от которого злые бюрократы с к р ы в а ю т; стоит только пробиться к нему, принести ему просьбу верноподданную, и все мигом, само по себе решится!".