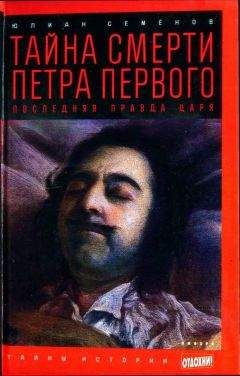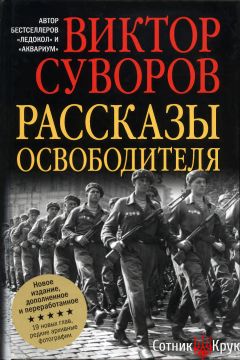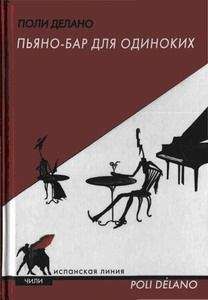Слова ленинской правды, подобно семенам, падали в почву, подготовленную всем строем русской жизни, зажатой царской бюрократией, тупой, необразованной, а потому всего страшившейся; обманываемой пьяными попами; "обложенной" со всех сторон "патриотами черной сотни", для которых был лишь один идеал - "то, что раньше"; будущего страшились, опять-таки из-за темноты своей, а ведь где не думают о будущем - там предают не только настоящее, но и древность отдают в заклад, ту самую, которую представляют неким идеалом... Но разве прошлое может быть идеалом будущего, разве возможно жить по "отсчету наоборот"?!
Чего, казалось бы, проще: отдай, государь-батюшка, стареньким предводителям дворянств малую возможность влиять на малое же, но с соблюдением милых их либеральным сердцам французских "штучек" - чтоб можно было и собраться, и покритиковать, и попикироваться, чтоб можно было дать интервью, пожурить "нижние этажи" власти, намекнуть на этажи верхние, но таким намеком, который будет понятен лишь своим же, в л а д е ю щ и м, чтобы, одним словом, в противовес бюрократической машине организовался некий парламентский механизм, где можно было бы обсуждать и вносить предложения, как п о с о в р е м е н н е е сохранять привычное, капельку его модернизуя, не замахиваясь, спаси господь, на устои "самодержавия, православия и народности".
Чего, казалось бы, проще: отдай, царь-батюшка, либеральничающим промышленникам и финансистам хоть малую толику влияния на д е л о, позволь им самим решать, где, как и почем строить, держи их подле себя в качестве совещательного совета, чтобы к их слову прислушивался и министр финансов, и министр иностранных дел - они ж чиновники, они могут лишь п р о в о д и т ь, а эти-то денежки вкладывают, свои, кровные, а ты поди сумей их выжать, сумей подмазать губернатора, облапошить министра, обвести управляющего Департаментом, подкатиться к члену государственного совета, повалить конкурента, сунуть прессе, а при этом еще с рабочими управляться, держать в ежовых рукавицах, выплачивая им тысячную долю того, что они своим трудом отчуждают в бронированные сейфы банков.
Нет, не отдавал государь ничего тем, кто мог бы у д е р ж а т ь по-новому.
Чем объяснить это? Инерцией страха? Неумением приспосабливаться к развитию? Ленью? Желанием сохранить все так, как было раньше? Но раньше-то не было рабочего класса! Раньше не было лабораторий и университетов, где затевали т е м н о е всякие там Лебедевы, Тимирязевы, Павловы, Бахи, Мечниковы, Менделеевы, Сеченовы, Циолковские (этот хоть, блаженный, уехал в Калугу, в глушь - там пусть себе крылья строит, там - не страшно). Не было раньше той сцепленности - рабочие руки и поиск ученых, а ведь именно такого рода надежная сцепленность гарантировала более или менее стабильное государственное могущество - до тех пор, естественно, пока законы развивающегося капитала не сталкивали интересы Ротшильдов, Круппов, Морганов и Рябушинских в кровавую бойню.
Видимо, Николай II не то чтобы не хотел понять всего этого, - он не мог этого понять, поскольку образование получил келейное, домашнее; языкам был учен, латынь читал, но был лишен з н а н и я общественного, широкого, а потому балансировал между разностями мнений, полагая, что высшее призвание самодержца в том и заключается, чтобы балансом разностей сохранять существующее. Впрочем, получи он университетское образование, самое что ни на есть широкое, и в том, пожалуй, случае он бы все делал, дабы с о х р а н и т ь привычное; куда ни крути - самый богатый человек империи, ему все позволено, как же эдакого не держаться, как же не опасаться, что отберут?!
Старались всеми силами сохранить, законсервировать сельскую общину, полагая, будто ее замкнутость обережет крестьян от "зловредных влияний", не желая понять, что новый век, со всеми его техническими новшествами, окажется сильнее того уклада, где сообща голодали, сообща гнули спину на помещика, помирали только поврозь; общим было горе - счастья не было.
Пытались делать ставку на то основополагавшее общину, что превращало ее в замкнутый цикл - "решим кругом", "посидим рядком, поговорим ладком", "не надо сор из избы выносить"; эти горькие пословицы, возраст которых исчислялся столетиями, давали бюрократии надежду на с т а р о с т ь, на тех, кто помнил, как пороли крепостных, кто страх всосал с молоком матери, кто боялся окрика и внушал детям: "Тише надо жить, тише, не высовываться".
Община надежно сохраняла Россию от вторжения капиталистического, прогрессивного по сравнению с ней, земледелия. Но при этом, охраняя свою с а м о с т ь, русская община лишила крестьянина, да и не только его, тех общественных качеств, которые были присущи всем последовавшим за общинным землепользованием формациям. Не было в России истинного феодализма, не было, значит, и рыцарства, то есть гипертрофированного чувства собственной значимости. Не было классического капитализма; не было, таким образом, з а к о н о в, ибо капиталист на закон - дока, он под ним, под законом, с мужика и рабочего шкуру сдирает и пять потов гонит ради своей прибыли. Но - по закону же! По закону, утвержденному парламентами, рейхстагами, палатами депутатов, конгрессами и сенатами! Миновал Россию, ее хозяйственный уклад, империализм то есть кровавая и н и ц и а т и в а, переходящая в преступление, но, тем не менее, и преступления-то были инициативные, напирающие, резкие!
Все эти ипостаси общественного развития пришли в Россию с громадным опозданием, но - пришли все же.
Прорубая тайгу, ложились версты железных дорог: государство, одной рукой опиравшееся на "идеологию темноты", второй рукой невольно разрешало "свет". Самодержавие вынуждено было понять, что без стальных магистралей не соберешь в единый кулак огромную державу. Хотелось бы, конечно, сохранить ямщицкие прогоны, да вот беда: подвели к русским границам со всех сторон рельсы, провели, окаянные, и даже через Персию и Кавказ стали тянуться, и кто?! лучший друг, любезный брат Вильгельм, кайзер прусский!
Парадокс самодержавия таился в его постоянной ущербной раздвоенности, в желании удержать, сохранить любой ценой старое, но, оказывается, старое это, столь милое сердцу, удержать можно только с помощью ненавистного, угрожающего, непонятного н о в о г о.
Происходило образование новых общностей, в первую голову промышленных, где надо было не к дедам прислушиваться, а к молодым инженерам. По ночам, в бараках рабочие внимали дерзким словам агитаторов, апостолов от социализма.
Разрушался уклад, сокрушаемый всевластным продвижением капитала. Самодержавие подвергалось давлению с двух сторон: те, которых угнетали, требовали хлеба, чтобы выжить; те, кто угнетал, заботились о патронаже сверхприбылям.
Шатался от полуночных веселий московский "Яр", северная столица жила шалой жизнью, засыпая лишь поутру; внешне все казалось незыблемым и прочным, но изнутри, незаметно и постоянно, как весенние ручьи в мартовском лесу, разрушалось старое, привычное, казавшееся устоявшимся; воздух был наполнен ожиданием нового; перемены, которых ждали классы общества, различные в главном, были едины в одном: "Дальше так быть не может".
Время китайских стен кончилось: двадцатый век раздвинул границы, расшатал их, сделав мир, волею людей труда и разума, маленьким и общим - со всеми его заботами, страхами и надеждами.
Старые мудрецы и юркие авантюристы, окружавшие трон, общались с блаженными, доносчиками, спекулянтами, агентами охранки, послами, попами, не умевшими прочесть священное писание; авантюристы жадно искали ту идею, которая могла бы к а р ь е р н о выделить их в глазах государыни (она императором верховодит, главное - ей в масть угадать); и получилось так, что д о л г а я задумка графа Балашова, издателя, землевладельца, державшего капиталы в Лионском банке, идея о том, что "хорошая война" встряхнет и объединит общество, была близка к реализации: вовсю шла подготовка к "шапкозакидательской" битве на дальневосточной окраине.
В этой предгрозовой сумятице, чреватой преддверием раската, только Ленин и его партия, обращаясь к русским рабочим, называли путь, единственно радеющий о национальной гордости великороссов, единственно определяющий реальную, а не химерическую перспективу развития исстрадавшегося народа, который силою и обманом понуждали угнетать другие народы и терпеть при этом своих единокровных, жестоких и трусливых, а потому особенно опасных угнетателей.
...Збигнев Норовский пропустил Дзержинского в полутемную, сырую комнату.
- Вот здесь, - сказал он. - Погодите, я зажгу свет.
Он запалил фитиль в большой керосиновой лампе-"молнии", поднял ее и, осветив потекшие стены, заржавевшие типографские станки, листки бурой бумаги на цементном полу, сказал:
- Это все можно убрать за день. Наймете людей - вылижут.
- Тут в два счета чахотку наживешь.
- Я не нажил. Выпустил запрещенных русскими Мицкевича и Словацкого - а живой.