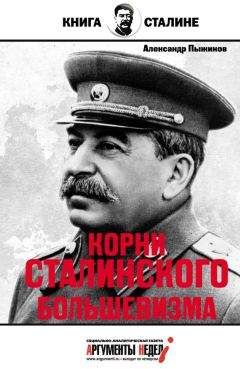Приведенные свидетельства весьма важны, так как определенно указывают на наличие мощного религиозного направления, связанного с внецерковным православием русского народа. Пока для исследователей это движение выглядит как «Terra incognito». Тем не менее, оценивая изложенный материал, можно со всей определенностью говорить о специфике российской конфессиональной обстановки, сложившейся после раскола в течение XVIII–XIX веков. Ее суть в том, что в рамках одной страны стали существовать как церковная (официальная), так и внецерковная (неофициальная) православные традиции. Они переплетались территориально, но также характеризовались и определенным региональным размежеванием. Так, позиции РПЦ были сильны на Украине, Белоруссии, южных и черноземных губерниях страны; здесь церковь традиционно имела поддержку населения. А вот внецерковное православие проявляло себя в промышленном Центре, Поволжье, Урале и северных губерниях. Но до революции власти и наука не могли в полной мере оценить этого своеобразия, поскольку неизменно рассматривали российское общество в качестве конфессионально однородного, т. е. церковного. Поэтому выявление масштабов внецерковного православия должно наконец-то стать актуальной задачей современной исторической науки. С прояснением этой непростой проблемы связано понимание многих ключевых перипетий отечественной истории.
Не менее судьбоносные для России последствия раскола произошли в экономической сфере, а именно в промышленном строительстве, потребности в коем с начала XVIII столетия заметно актуализировались. Как известно, Петр I, давший импульс фабрично-заводскому развитию, столкнулся с явным нежеланием дворянства погружаться в производственные хлопоты. Правящий класс и в дальнейшем не проявлял должного интереса к этим делам, считая их второсортными, недостойными звания дворянина, устремления которого концентрировались главным образом вокруг сельского хозяйства. Эта ситуация обусловила привлечение к торговомануфактурной деятельности старообрядцев, отстраненных от административной вертикали и от собственности, т. е. земельного фонда. Начавшееся промышленное развитие давало им реальную возможность для выживания и сохранения своей веры в дискриминационных условиях. Поэтому староверческая мысль обосновала и санкционировала позитивное отношение к торговле и производству, уравняв его с благим трудом земледельца[32]. Иными словами, раскол постепенно превращался в хозяйственный механизм для обретения своей конфессиональной устойчивости. Об участии староверов в подъеме российской промышленности написано уже достаточно много. Исследователи, в том числе и зарубежные авторитеты, даже находили немало общего в отношении к промышленному созиданию у русских староверов и западных протестантских течений. Давно стали расхожими высказывания на сей счет знаменитого социолога М. Вебера[33]. Известный американский ученый Дж. Биллингтон также проводил параллели между кальвинистами и староверами. По его мнению,
«оба движения были пуританскими и заменяли обрядовую церковь на новый аскетизм здешнего мира, а власть церковной иерархии – на местное общинное правление. Оба движения стимулировали новую экономическую предприимчивость суровым требованием усердного труда, как единственного средства доказать, что ты принадлежишь к избранникам гневного Бога»[34].
Сразу бросается в глаза то, что анализ русского старообрядчества находится здесь во власти признанных и абсолютно справедливых оценок западного протестантизма. Действительно, их внешняя схожесть очевидна, но при этом сравнении из виду упускается «маленькая» деталь, учет которой кардинально меняет предполагаемый смысл. Не нужно забывать, что западные протестанты с середины XVII века, т. е. после окончания европейских религиозных войн, находились в принципиально иной обстановке, чем русские староверы. Протестанты проживали в своих государствах, в которых их вера обрела государственный статус. Они являлись полноправными хозяевами своей страны, ни о какой дискриминации говорить здесь не приходится. Эта однородная конфессиональная среда с присущей ей протестантской этикой могла рождать и рождала классический капитализм. Собственно М. Вебер наглядно продемонстрировал, как в исторической ретроспективе протестантская психология формировала новые экономические реалии. Совсем другое дело русские старообрядцы. Они оставались в государстве, где власть принадлежала их идейно-религиозным противникам, ставшими победителями. Условия, в которых они существовали, характеризуются откровенно дискриминационным характером. В этом принципиальное отличие от западного варианта. В староверах, по аналогии с протестантами, усматривали таких же носителей здорового капиталистического духа. Однако староверческие реалии оказались ориентированы совсем на другое, имевшее не много общего с приоритетом буржуазных ценностей. Находясь под государственно-церковным прессом, староверы вынужденно нацеливались не на частное предпринимательство с получением прибыли в пользу конкретных людей или семей, а на обеспечение жизнедеятельности своих единоверцев. Только такие общественно-коллективистские механизмы представлялись оптимальными в том положении, в котором жило русское старообрядчество. А потому его религиозная идеология освящала экономику, предназначенную не для конкуренции хозяйств и обоснования отдельной избранности, как у протестантов, а для утверждения солидарных начал, обеспечивающих существование во враждебных условиях. Поэтому подводить под один знаменатель западный протестантизм и русское староверие в экономическом плане не совсем правильно: это лишь затушевывает суть дела и отдаляет от понимания того, какие процессы протекали в рамках раскольничьей общности.
Духовные и организационные правила, по которым развивались староверческие хозяйства, формулировались в знаменитой Выговской поморской общине. Их краеугольным камнем явились отношения равенства всех членов общины, как в хозяйственном, так и в духовном смысле. Род занятий, положение в общине зависели от способностей каждого и от признания их со стороны единоверцев: простой крестьянин мог стать наставником или настоятелем. Это обеспечивала практика внутренней открытости и гласности, когда ни одно важное дело не рассматривалось тайно. Любой имел право заявить свои требования, и они выслушивались и поддерживались в случае, если другие считали их сообразными с общей пользой. В такой атмосфере решались также и ключевые хозяйственно-экономические вопросы. Содействие внутриобщинных сил, братское доверие позволили Выговскому общежительству скопить громадные капиталы – своего рода общую кассу для различных коммерческих инициатив[35]. В результате Выговское староверческое общежитие трансформировалось в самодостаточную, независимую от властей структуру, развивающуюся по своей внутренней логике. Известный писатель М. М. Пришвин – выходец из старообрядческой среды, воспевал край Выга, где его предки «боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое государство», не совсем ему дружественное[36].
Устройство Выговской общины дает представление о хозяйственной и управленческой организации старообрядцев, действовавшей в России. Со второй половины XVIII века в рамках такой модели раскол превращается в прогрессирующую экономическую корпорацию в купеческо-крестьянском облике. Уже в 1770-х годах, в правление Екатерины II, происходит легализация староверия посредством оформления его новых крупных центров в Москве и Поволжье. Выйдя из-за границы, из лесов и подполья, старая вера начала заполнять российские просторы, преобразуя их своей хозяйственной инициативой. Специфика старообрядческой экономики не осталась незамеченной для наблюдателей той эпохи. Еще в 1780-х годах князь М. М. Щербатов, говоря о староверах, подчеркивал, что все они «упражняются в торговле и ремеслах», демонстрируя большую взаимопомощь и «обещая всякую ссуду и вспомоществование от их братьев раскольников; и через сие великое число к себе привлекают»[37]. В первой половине XIX столетия эти черты вызывают уже серьезные опасения. Как например, у московского митрополита Филарета, прямо объяснявшего распространение раскола существованием в нем общественной собственности, которая, будучи его твердою опорой, «скрывается под видом частной»[38]. К тому же раскольничьи наставники, проживающие не где-нибудь, а в столице на Охте (имелся в виду П. Онуфриев – Любопытный), в своих сочинениях открыто «проповедуют демократию и республику»[39]. По убеждению знаменитого архиерея господствовавшей церкви, это доказывает, что раскол стал особой сферой, «в которой над иерархическим господствует демократическое начало. Обыкновенно несколько самовольно выбранных или самозваных попечителей или старшин, управляют священниками, доходами и делами раскольничьего общества…Сообразно ли с политикою монархической усиливать сие демократическое направление?» – вопрошал митрополит Филарет[40].