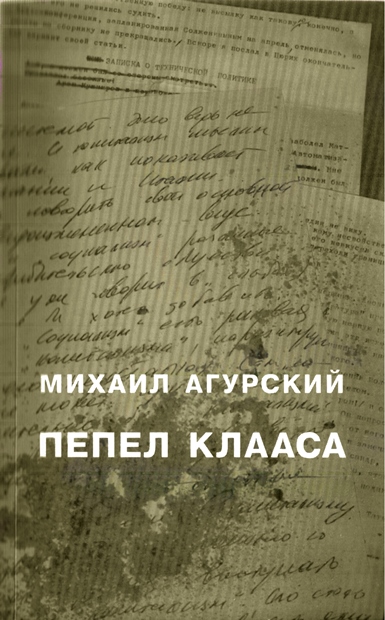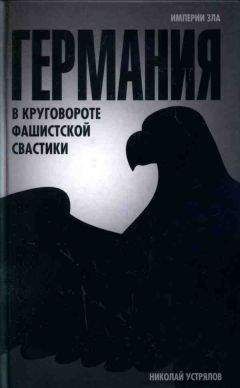и вступило с большевиками в коалиционное правительство, просуществовавшее более полугода, до лета 1918 года. Эта коалиция была временной, но ее последствия намного пережили участие эсеров в большевистском правительстве, ибо именно в этот краткий период в среде левых эсеров была выдвинута идеология скифства, влияние которой на позднейшее советское общество было исключительно сильным. Во-вторых, значительное число левых эсеров, руководствуясь народническим радикализмом, влилось в большевистскую партию, принеся с собой сознательный революционный национализм. Это не было случайно, ибо доведенная до логического предела идея о народе как единственном источнике любого массового народного движения не могла исключать большевиков, пришедших к власти. Если большевики пришли к власти, это могло быть только в результате поддержки народных масс. Правда, в разгар событий трудно было установить, на какую часть народа они опирались и действительно ли за ними следовали широкие народные массы. Но раз им удалось победить другие партии, раз им удалось сразу захватить власть не только в столице, но и во многих других частях страны, это могло восприниматься убежденными народниками как решающий критерий народного волеизъявления, с которым нельзя было не считаться. Ни одно массовое движение не определяется его вождями, являющимися лишь чем-то вроде пишущей ручки в руках народа, диктующего свою волю истории, или, по выражению одного из лидеров левых эсеров А. Устинова, граммофоном, воспроизводящим волю народа. Тем самым большевизм обязан своими успехами не Ленину, Троцкому, инородцам, а самому русскому народу, заставившему этих вождей выполнять свою волю, какие бы слова те при этом ни произносили.
Даже если большевизм и приобрел какие-то нежелательные черты, его победа все равно является народным волеизъявлением и как таковая должна быть безусловно и принята, и пережита, и изжита вместе с ним. Вместе с тем левое народничество традиционно противопоставляло себя капиталистическому Западу, полагая, что русскому народу, опирающемуся на свои традиции, удастся миновать капитализм и прийти к социализму собственным путем.
Хотя левые эсеры, как и большевики, считали себя интернационалистами, их интернационализм носил ярко выраженный мессианский характер. Советская Россия была для них авангардом передового человечества, зажегшего факел свободы всему угнетенному миру. Мария Спиридонова с гордостью заявила через неделю после Октябрьского переворота: «Мы теперь указываем нашим братьям в Западной Европе!» Упомянутый А. Устинов пошел еще дальше: «Россия — отсталая страна, — признал он,— однако ж российские варвары оказались, можно сказать, вполне владеющими всеми теми ультрадемократическими и ультрасоциалистическими лозунгами, которыми Европа только начала жить последний год». Левый эсер Шифер утверждал, что «только в революционной России Интернационал может черпать свои силы для борьбы с империализмом всего мира».
Революционному народничеству, и левым эсерам в том числе, была свойственна также весьма расплывчатая религиозность. Она не была замкнута в какие-либо конфессиональные рамки, как мы убедимся позднее. Речь скорее шла о мессианском настроении, о самоотверженности, освященной благом народа, который воспринимался как некий абсолют. Когда Спиридонова призывала левых эсеров вносить в революцию «живую струю религиозного пафоса», она, скорее всего имела в виду именно это.
Мессианский характер Октябрьской революции воспринимался многими левыми эсерами не только в социальном плане, но также и как революция духа. Весьма характерно в этом смысле письмо Р. Петкевича Горькому, написанное в начале 1918 года. «В большевизме, — утверждает Петкевич, — выражается особенность русского духа, его самобытность. Обратите же внимание: каждому свое! Каждая нация создает свои особенные, индивидуальные, только ей свойственные приемы и методы социальной борьбы: французы, итальянцы — анархо-синдикалисты, англичане наиболее склонны к тред-юнионам, а казарменный социал-демократизм немцев как нельзя соответствует их бездарности. Мы же по пророчеству великих наших учителей, например, Достоевского и Толстого, являемся народом-мессией, на который возложено идти дальше всех и впереди всех. Именно наш дух освободит мир из цепей истории!» Подавление левоэсеровского мятежа летом 1918 года не уничтожило симпатии всех левых эсеров к большевикам. Часть левых эсеров во главе с Устиновым образовала отдельную группу т. н. революционных коммунистов, а, кроме того, возникла и группа коммунистов-народников. Обе группы влились в партию большевиков. Устинов стал видным дипломатом, в частности послом в Греции и Эстонии, скончался в Таллине в 1937 году. Много левых эсеров влилось в ВЧК.
Но и правые эсеры в целом не были столь враждебны большевикам, как это принято считать. Их борьба против большевизма всегда имела существенные самоограничения, она почти никогда не была последовательной. Зачастую они искали третий путь между большевизмом и белым движением. Оставаясь верными народническим традициям, они верили, что свержение большевизма есть дело внутренней эволюции самого русского народа. А часть правых эсеров даже примкнула к большевикам. Более того, цифры показывают, что в большевистской партии было больше выходцев из правых эсеров, чем из левых.
В 1922 г. в составе РКП(б) было всего 22 517 членов из других партий, т. е. всего 5,8% от ее общей численности. Из них 12,7% было бывших левых эсеров, и 17,5% бывших правых эсеров, т.е. всего около 7000 человек. В составе губкомов РКП(б) в то же время было 16 бывших левых и 20 бывших правых эсеров.
О том, что переход эсеров на сторону большевиков не был лишь политическим оппортунизмом, говорит пример С. Дмитриевского, бежавшего в 1930 г. на Запад. Дмитриевский, работавший на дипломатической службе, был близок к Устинову и работал с ним первым секретарем посольства в Греции. Не исключено, что они были частью какой-то внутрипартийной группы. (См. приложение № 2.)
Особое место в национальном признании большевизма занимает группа левых народников, отстаивавшая в советских условиях крестьянский кооперативный социализм. Лидерами этой группы были А. Чаянов и Н. Кондратьев. Эта группа отделилась от партии эсеров и стала сотрудничать с большевиками, не признавая их идеологию. Их иногда называли неонародниками, и, хотя это название во многом верно, оно несправедливо лишь потому, что неонародничеством можно было бы назвать гораздо более широкое течение в советской общественной жизни. Чаянов занимал в двадцатые годы центральное положение в области сельскохозяйственной экономики, будучи директором института сельскохозяйственной экономики и президентом Академии сельскохозяйственных наук, а Кондратьев — не менее важное положение директора института конъюнктуры. Хотя формально идеи кооперативного социализма носят экономический характер, они этим отнюдь не ограничиваются. На самом деле кооперативный социализм имеет откровенный национальный подтекст, ибо сама идея опоры на русское крестьянство в условиях большевистской власти и объективно, и субъективно подразумевала национальную ориентацию. Сохранение крестьянства как экономической основы страны, как наиболее мощной продуктивной силы не могло не вести к национализации советской системы, хотя это не был единственный для этого путь.
И Чаянов, и Кондратьев начали активную политическую деятельность уже после