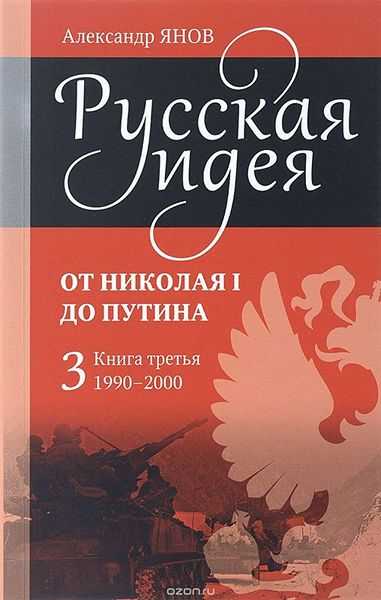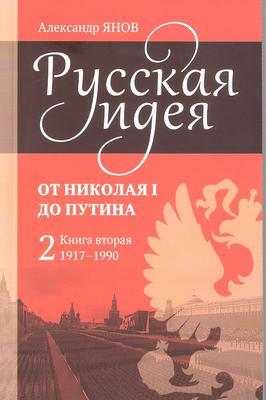людоеды евразийской ее половины?
Вот и пытаются они, как зверь, уже попробовавший крови, ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ. А поскольку большевиков под рукой больше нет, задачу эту взяли они на себя, стараясь сделать вековое сосуществование двух половин России, то самое сосуществование, что создало в XIX веке ее великую культуру, невозможным. Грешно, однако, было бы забыть, что изрядная доля вины за их успех лежит и на Западе, и на отечественных либералах тех начальных лет. Как бы не повторить старые ошибки после Путина…
Запад виноват в том, что, едва рухнула Берлинская стена и исчез страх взаимного уничтожения, он потерял интерес к России. Как отрезало. Не волновала его «Веймарская» психологическая война, развязанная реваншистами, хоть об стенку головой бейся. Для наглядности расскажу одну историю тех лет. В Нью-Йорк Таймс появилась в начале 1990-х, на закате Перестройки, анонимная статья, подписанная буквой 2. Содержание ее было вполне тривиально для времени, когда умы западной интеллигенции сосредоточены были на том, помогать Горбачеву или нет?
Автор полагал, что не надо, поскольку как коммунист Горбачев не способен развязать в Москве антикоммунистическую революцию, которую м-р 2 почему-то отождествлял с необратимой победой демократии. Понятия не имея при этом, что среди реваншистов хоть пруд пруди было и яростных антикоммунистов. Взять хоть того же «просто коричневого» Баркашова (я не говорю уже о мощном течении «белых», мечтавших о реставрации царизма).
Действительная-то проблема состояла тогда в противостоянии реваншистам, безотносительно от их политических предпочтений (коммунисты как ударная сила реванша были выведены на тот момент из игры отменой 6-й статьи брежневской конституции о руководящей роли партии). Не зря же смысл вскоре грянувшего путча был вовсе не в восстановлении 6-й статьи-и слова об этом путчисты не обронили, — но в сохранении сверхдержавы, противостоящей Западу. Так что недалеко ушел от них м-р 2 в своем антикоммунистическом рвении: они тоже считали, что помогать Горбачеву не надо.
Но и публика в Америке не имела представления об имперском реванше. И взбудоражили ее вовсе не идеи анонимного автора, а его анонимность. Напомнило знаменитую статью Джорджа Кеннана 1947 года в Форейн Афферс со столь же таинственной подписью — X. После непродолжительного журналистского расследования инкогнито было раскрыто. Мистером 2 оказался мой коллега по кафедре в Беркли и давний оппонент-профессор русской истории Мартин Мэ-лиа. Просто его мучила зависть: он тоже хотел выйти на политическую арену. И с помощью этого трюка вышел. Года два спустя, уже после гайдаровской реформы и рождения «патриотической» легенды о ней, в Нью Репаблик появилась еще одна статья Мэлиа с вынесенным на обложку заголовком «Почему Ельцин преуспеет!»
Были в ней и здравые мысли. Например, «как бы плохо людям в СССР не жилось, они все-таки получали утешение от того, что были гражданами великого государства». Или «конец презираемого старого режима переживается, несмотря ни на что, как национальное унижение». Но все это рассматривалось как мелкие издержки по сравнению с главным: «антикоммунисты у власти» и «общество монетизировано, реальные цены — не административные директивы — теперь норма». Короче, победа одержана, отныне Россия в лагере демократических стран. И больше нам, Америке, заботиться не о чем.
Дальше печальная повесть о том, как я потерпел поражение в попытке просветить нового властителя дум, подробно рассказывая ему о том, что на самом деле происходит в России. О том, что победа в ней не только не одержана, но худшее впереди, несмотря на то, что коммунизм теперь для нее — отрезанный ломоть. О том, другими словами, что идеи его — анахронизм. Вот что я ему рассказывал.
Странная история произошла со мною в Москве в июне 1993-го. Я встречался, как, я надеюсь, помнит читатель, с вождями и идеологами «непримиримой» оппозиции, и потом печатал их портреты-в России и в Америке (позже я собрал их в книгу «После Ельцина, Веймарская Россия», 1995). Встретиться с Л.Н. Гумилевым я не успел, он умер. Пришлось писать по его книгам. Опубликовали этот очерк в довольно камерном журнале Свободная мысль. И тотчас группа «патриотических» интеллектуалов дала мне взбучку на российском телевидении за «оскорбление национальной святыни». Чтобы не вступать в перебранку, я решил побеседовать о теориях Гумилева с крупными специалистами, его коллегами, и опубликовать нашу беседу в популярном издании. Стал искать собеседников. И представьте — не нашел.
Евреи отказались потому, что они евреи и им, объяснили мне, не подобает даже смотреть в сторону «национальной святыни» (можете вы себе представить, чтобы сэр Исайя Берлин отказался обсуждать Льва Толстого или Артур Шлезингер — Франклина Рузвельта из-за своего, скажем так, неадекватного этнического происхождения?). Но дальше выяснилось, что от разговора на эту взрывоопасную тему отказались и русские. Не дай бог, и их запишут в «оскорбители». А у них, извините, семья, дети.
Одна очень осведомленная дама так этот мой конфуз откомментировала: «А я сама ИХ боюсь. И мало кто в Москве свободен сейчас от страха перед НИМИ. Уже сегодня, не дожидаясь какого-нибудь «националистического мятежа» (как Вы знаете, несколько месяцев спустя он и впрямь произошел), узаконила себя своего рода негласная цензура, куда более строгая, чем прежняя, государственная. Настоящее табу, нарушать которое опасно для всех-от научного сотрудника до президента. Люди, причисленные к лику «патриотических святых», пусть даже патологические антисемиты, как покойный Гумилев, категорически вне критики.
Нужно быть безумцем или агиографом, чтобы тронуть их память».
Только странная эта, согласитесь, история помогла мне понять, что в тогдашней Москве перейден был какой-то психологический порог, которого в нормальном обществе люди не переступают. Подорвавшись на минном поле крушения сверхдержавы и вызванного этим хаоса, интеллигенция раскололась. Рушились старые дружбы, распадались вчерашние кланы, люди одного круга становились чужими друг другу, порою и врагами. Утрачена была общая почва для спора, не было больше общего языка, общих ценностей, общепризнанных авторитетов.
В большой политике не лучше. Спикер Верховного Совета именовал государственное телевидение «геббельсовской пропагандой», а пресс-секретарь президента звал Верховный Совет «инквизицией». Депутат Захаров, вовсе не намереваясь позабавить аудиторию, так описывал свои парламентские впечатления: «Коллеги говорят, что единственный критерий при голосовании у них — если предложение внесено президентом, нажимай кнопку «против». Смысл предложения не имеет значения».
Так выглядела вблизи психологическая война, раздиравшая Россию на части. Я не знаю, что она напоминает вам, мне она напомнила Веймарскую Германию.
Откровения ненавистников Запада
Мэлиа возразил: «Это шок кризиса. То же самое было у нас в 30-е во время великой депрессии. Паника. Люди обвиняли