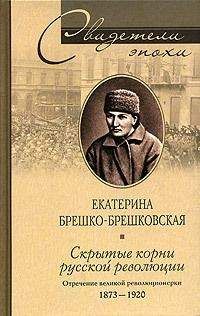Вернувшись в Россию после их смерти, я узнала от брата Николая, что мой побег с его последствиями отразился на них очень болезненно. Пока я жила в Баргузине, моя мать настояла на том, чтобы подать прошение о моем помиловании, и нетерпеливо ожидала ответа. Когда тот пришел, она узнала, что ее дочь пыталась бежать и снова приговорена к каторге. В то время как я считала себя счастливой, поскольку нашла дело жизни, удовлетворявшее моим внутренним побуждениям и требовавшее приложения всех сил, родители глубоко сожалели о моем решении. Я знала, что всем лучшим в себе обязана здоровой наследственности и разумному образованию, которое давала мне мать в детстве и юности. Мы, три сестры, жили и учились дома практически до самого замужества. В окружающем нас обществе, среди дворян, мои родители – Константин Михайлович и Ольга Ивановна Вериго – занимали видное место. С самого детства мы, дети, любили их и уважали за чистоту и благородство их жизни, которая сияла ярким светом в противоположность обычному образу жизни помещиков в отдаленных уголках провинции. Дома мы научились ценить все самое лучшее и прекрасное в жизни и по примеру родителей прониклись верой в человека, в возможность жить согласно своей вере и убеждениям, не обращая внимания на предрассудки и невежество далекой провинции с ее пустой, монотонной жизнью. Внимательное отношение родителей к детским потребностям, постоянная забота о нашем интеллектуальном и нравственном образовании так привязали к ним наши души, что даже в пожилом возрасте мои братья и сестры продолжали ощущать их присутствие. Мы, их дети, всегда оставались друзьями, и все, кроме меня, провели жизнь в полном согласии с тем, чему их учили родители и какой подавали пример, хотя, возможно, и не столь гармонично, так как их семейная жизнь оказалась не такой удачной, как у родителей, которые были поразительно счастливой парой.
Я унаследовала философские наклонности отца и энергию матери и в результате постоянно жила как бы в двойном потоке мысли и действия, который навсегда увлек меня прочь от обычного образа жизни. Не только разум убеждал меня, что я должна поступать именно так, а не иначе – я всем своим существом чувствовала, что по-другому у меня не получится. Мои мысли и чувства находились в полной гармонии. Слово и дело естественным образом следовали друг за другом. Мои нравственные таланты настойчиво требовали применения, и я никогда не знала ни минуты покоя, пока не принималась за выполнение плана действий, созревшего в моем мозгу.
В течение моего детства мать своей любовью и наставлениями обуздывала мой бурный характер и учила любить и жалеть других. Но когда эта любовь, этот интерес к чужим жизням преобразовались в активную решимость бороться за общее благо, мать испугалась моего революционного пыла и впоследствии всегда глубоко жалела о том, куда он меня завлек. Пусть эти печали – печали, вызванные нами, революционерами, которых обстоятельства вынуждали причинять боль тем, кого мы больше всех любили, – не будут вменены нам в вину; пусть их считают частью той великой жертвы, которую мы принесли на алтарь истины и долга – священной жертвы гражданина! Сознание этого долга перед народом – столь могучая сила, что ее не заменят никакие узы тесной привязанности, даже между родителями и детьми. Едва она проникает в глубины чьей-то души, как сразу же затмевает все прочие чаяния и неудержимо ведет к избранной цели. Эта сила овладела моей душой, и я покорилась ее воле.
Часть четвертая революция в развитии
Глава 23
Распространение революционных идей, 1881–1905 годы
Подготовительный период – эпоху хождения «в народ» – я попыталась описать подробно. Теперь же будет достаточно обрисовать лишь общие контуры.
После моего неудачного побега из Баргузина я провела в ссылке еще 16 лет, до 1896 г., когда, через 20 лет после первого ареста, мне позволили вернуться в Европейскую Россию.
Однако мы, ссыльные, были всегда в курсе того, что происходит в России. Мы получали газеты и жадно расспрашивали новых политических осужденных, которые постоянно пополняли наши ряды.
Несмотря на гонения и преследования, оставалось немало деревень, где крестьяне сохраняли старый бунтарский дух, дошедший со времен «общинников», которых за много лет до того пороли и ссылали в Сибирь, вырвав ноздри. Таких местных героев было великое множество. Мужики обычно присоединялись к этим протестам. Прибывшая полиция нередко порола всю деревню и размещала в ней на постой жестоких и грубых солдат. Но какими бы ужасными ни были наказания, память о вождях этих крестьянских восстаний порождала славные традиции, и сельская молодежь жила историями о страданиях, которые рассказывали им старики, участвовавшие в бунтах и бесстрашно отстаивавшие свои права на лес, на луг или на проход через соседнее поместье. В 1874 г., живя среди крестьян, я встречалась с такими людьми.
После Крымской войны по России пронесся очистительный вихрь. Плети, клейма и даже шпицрутены[55] ушли в прошлое, хотя наказание розгами и ссылка по-прежнему были широко распространены. Помещики, испуганные малейшими предвестиями реформ, предсказывали новую пугачевщину. Крестьяне ощущали эти настроения и думали, что помещики мешают получить им «землю и волю», которые считали своими неотъемлемыми правами. Часто происходили столкновения, а более отважные крестьяне решались на отчаянные поступки. Террористические акты случались все чаще и чаще. И в людской, и в гостиной рассказывались ужасные истории, вроде следующей: один помещик ехал с семьей в карете и ничего не предвещало беды. Вдруг лакей спрыгнул с козел, как будто собрался чинить экипаж, но вместо этого он схватил топор, убил своего господина, его жену, детей и гувернантку, которая стала бы опасным свидетелем. Однако служанку, которую он ударил ножом, спасла планка корсета.
– Поэтому, – рассказывали в гостиной, – негодяя найдут.
– Никогда! – говорили у слуг. – Односельчане его спрячут.
Многих помещиков убивали на охоте, а их дома по ночам поджигали. Люди в масках вырезали целые семьи. Это был неорганизованный, но массовый террор, порожденный разочарованием и отчаянием. Столь энергичный протест героев-крепостных заставил Александра II сказать: «Лучше освободить крестьян сверху, чем дожидаться, пока они освободятся снизу».
Крестьяне, вдохновленные отвагой своих вождей, больше не молчали. Из уст в уста переходили слова: «Воля! Воля!» В провинции сложилась очень тревожная ситуация, потому что одна часть населения страстно ожидала перемен, а другая часть мрачно размышляла о неведомом будущем. Дворяне были напуганы, но деятельны. Их вожди постоянно ездили в Петербург с донесениями и требованиями, чтобы любой план по освобождению крепостных учитывал интересы дворянства.
Крестьяне с приближением великого дня успокаивались. Они верили, что права народа на волю и землю, в соответствии с их древней верой и традициями, наконец-то будут полностью признаны публично. Казалось, у них не осталось сомнений. Я не слышала, чтобы кто-нибудь из них допускал возможность, что они получат слишком мало земли или не получат вообще. Крестьяне верили, что помещики только временно владеют землей, что это владение основано на избытке рабочей силы и что при ее отсутствии помещик превратится в государственного чиновника. «Если у помещиков останется много земли, – говорили они, – то кто ее будет обрабатывать?» С терпением и благоговением крестьяне дожидались 1 февраля 1861 г.[56]
Они целыми общинами отправлялись в церковь, на богослужение и оглашение манифеста. Он был составлен в тяжеловесном, церковном стиле, и даже образованный слушатель понимал его с трудом. У крестьян возникло впечатление, что это только формальное вступление, за которым последует четкое объяснение тех принципов, на которых они получат свободу и независимость. Но вместо этого священники и господа говорили крестьянам, что те из крепостных превратились во «временнообязанных». Крестьяне ничего на это не отвечали, но было ясно, что они не верят своим господам и ожидают другого манифеста. В тех случаях, когда крестьянин находился в дружеских отношениях с помещиком, он принуждал себя к терпению, но, когда отношения между ними были напряженными, обычно сразу же предъявлял претензии. Ситуация была угрожающая. Помещики требовали назначения мировых посредников[57] и распространения по деревням уставной грамоты.
Таким образом, освобождение крестьян не урегулировало ситуацию, а, наоборот, заложило основы для еще большего недоверия, породило в крестьянах жажду мести и укрепило их решимость. Согласно уставной грамоте, они получали либо очень маленькие земельные наделы, либо более крупные наделы очень плохого качества и оказались прикреплены к ним обязательством выкупить землю за 47 лет по непомерным ценам. Цены устанавливались самими помещиками согласно качеству земли и оказались завышенными. В черноземных губерниях помещики вообще не желали расставаться со своей землей и искушали крестьян, предлагая им в подарок надел земли для постройки дома. В обмен крестьяне теряли все права на причитающийся им участок.