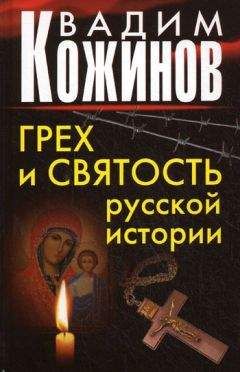«Мы не считаем национальность последним словом и последнею целью человечества, – утверждала русская литература устами Достоевского. – Только общечеловечность может жить полною жизнью. Но общечеловечность не иначе достигается как упором в свою национальность каждого народа. Идея… национальностей есть точка опоры, Антей…»
Все великие русские писатели прекрасно сознавали, что пафос всечеловечности, оторванный от народной основы, порождает тенденции космополитического характера, о которых со всей резкостью говорил и Достоевский. Сохранить и развить единство народности и всечеловечности – это не только труднейшая, но и в полном смысле слова творческая задача, которая для своего осуществления нуждается не только в разумном ее понимании, но именно в напряженном и вдохновенном творчестве.
И если происходит разрыв, распад единства всечеловечности и народности, первая вырождается в космополитизм, а вторая – в национализм. Оба эти явления, впрочем, характерны лишь для сугубо боковых, периферийных линий русской литературы; ее основное, стержневое движение всегда сохраняло единство всечеловечности и народности.
Стоит подчеркнуть для большей ясности, что космополитизм и национализм по-своему также взаимосвязаны: национализм, утверждая одну нацию за счет всех других, в сущности, требует от этих других встать на космополитические позиции (это в высшей степени характерно, например, для такой крайней формы национализма, как сионизм). С другой стороны, именно под давлением космополитических тенденций рождается – в качестве их прямолинейного, примитивного противовеса – национализм…
Достоевский не раз со всей ясностью провозглашал идею органического единства всечеловечности и народности в русской культуре. Он говорил, например, что во «всемирной отзывчивости» пушкинского гения «выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?»
* * *
Итак, характер отношений России с Византией и затем с Западом (речь идет именно о самой природе этих отношений, а не о том конкретном содержании, которое обретала русская культура за столетия этих отношений) определил способность и потребность русской литературы постоянно смотреть на себя не только «изнутри», но вместе с тем еще и как бы со стороны, глазами «внешнего» мира, чувствовать и мыслить себя перед лицом этого мира и даже перед его судом.
Та пронизывающая русскую литературу сила «самосуда», о которой уже шла речь, несомненно, обусловлена и этим фактом. Между прочим, время от времени в литературе раздавались голоса, призывающие как-то умерить эту силу.
Так, например, очень влиятельный в свое время критик и литературовед П.С. Коган цитировал характернейший монолог из повести Бунина «Деревня»: «Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили… Рылеева удавили, Полежаева в солдаты, Шевченко на десять годов в арестантские законопатили… Достоевского к расстрелу таскали. Гоголь с ума спятил. Ох, да есть ли еще такая страна в мире, такой народ, будь он трижды проклят?» – и пытался противопоставить ему «логически» обоснованное возражение: «Не задумываясь, отвечаю: есть. И не только страна. Вся Европа, пожалуй, весь мир».
В самом деле, Сервантеса в тюрьму упрятали, Байрона затравили, Торквато Тассо в больнице годами терзали, Оскара Уайльда на каторге сгноили, Шенье казнили, Ницше «с ума спятил» и т. д. Без конца перечислять можно, и если следовать логике Бунина, так заключить придется: «Есть ли еще такая планета во Вселенной, такие существа, будь они трижды прокляты?»
П.С. Коган, без сомнения, фактически и чисто «логически» совершенно прав. Но если взять за основу чистую логику, пришлось бы заново переписывать всю русскую литературу.
Так, эта литература многократно вершила настолько беспощадный суд над Иваном IV, что скульптор Микешин, создавая в 1862 году памятник «Тысячелетие России», должен был исключить этого царя из числа ста девяти изваянных им фигур выдающихся исторических деятелей. Между тем было бы вполне логично вспомнить, что за одну только ночь на 24 августа 1572 года (между прочим, как раз года отмены опричнины) по приказу короля Карла IX было зверски убито примерно столько же людей, «повинных» лишь в том, что они не были католиками, сколько убили палачи Ивана Грозного за восемь лет опричнины. Столь же уместно было бы напомнить и о том, что по указу другого современника Ивана IV – английского короля Генриха VIII были безжалостно повешены 72 тысячи людей, «виновных» лишь в том, что они стали бродягами в результате «огораживаний», то есть превращения арендуемых ими земельных участков в овечьи пастбища… Или о том, что за годы правления еще одного современника Ивана IV, испанского короля Карла V, были казнены около 100 тысяч еретиков, при этом значительная часть их подвергалась публичному сожжению на костре.[164]
Но все такие напоминания были бы совершенно бессмысленны и бесполезны. Вся их «бесполезность» с предельной ясностью обнаруживается в том факте, что ведь сам Иван Грозный мучительно каялся и беспощадно осуждал себя за совершенные по его приказаниям казни!
Существо дела с замечательной выразительностью поясняет один эпизод духовной судьбы Александра Герцена. В 1847 году он уехал на Запад, унося в себе, как незаживающую рану, как сгусток боли и стыда за свою родину, память о пяти казненных и ста шестнадцати сосланных в Сибирь декабристах. И вот в июне 1848 года он стал потрясенным свидетелем казни около 11 тысяч восставших парижан, а затем «депортации» еще около 14 тысяч из них на тихоокеанский остров Нука-Ива.
Самосознание Герцена как бы дрогнуло… В его рассказе об этом чудовищном терроре (в «Письмах из Франции и Италии») присутствует сопоставление Франции с Россией (причем дело идет и о судьбе декабристов) – явно не в пользу первой. «Казаки… в сравнении с буржуазией… агнцы кротости…
Французы вообще любят теснить. Вы знаете, как они в прошлом веке «освобождали» Италию и какую ненависть возбудили в Испании – но это ничто перед тем, каковы они в междоусобии: тут они делаются кровожадными зверями, мясниками Варфоломеевской ночи… Нука-Иво далеко превосходит Сибирь. В Сибири климат свирепый, но не убийственный, ссылаемые на поселение (на депортацию)… не принуждены к поурочному труду, как во французских пенитенциарных колониях…»
И Герцен даже склонен прийти к выводу о какой-то патологической жестокости французов вообще. Он напоминает о «междоусобной» войне конца XVIII века: «В Марселе роялисты вырезали, избили всех мамелюков с их женами и детьми. В другом месте католики напали на протестантов, выходящих из церквей; часть их перебили и, раздевши донага, таскали их дочерей голых по улицам… Но разве якобинцы лучше поступали в департаментах? Нет, не лучше. Но это не только не утешительно, а, напротив, это-то и приводит в отчаяние, тут-то и лежит неотразимое доказательство кровожадности французов. С которой бы стороны победа ни была, – «оставьте всякую надежду», они безжалостны и невеликодушны, – они рукоплещут каждому успеху, каждой кровавой мере… Я стыжусь и краснею за Францию…» И тогда же, в частном письме, обращенном к «московским друзьям», бежавший из России Герцен говорит неслыханные слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу…» (!) – и, предвидя, что эти слова вызовут изумление и возмущение его друзей в Москве, обвиняет их: «Вам хочется Францию и Европу в противоположность России, так, как христианам хотелось рая – в противоположность земле… Неужели вы поверите в возможность такого военного деспотизма и рабства… если б нравы и понятия не делали его вперед возможным?…
Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается». Итак, Герцен стыдится и краснеет за Францию, а сама Франция (что страшнее всего!) не испытывает никакого стыда… И все же Герцен не изменяет своей позиции: проходит некоторое время, и он обращает к миру свою «Полярную звезду», на обложке которой светятся силуэты пятерых русских мучеников…
Вспомним еще раз слова Достоевского: «Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев», которая «есть уже сама по себе признак величайшей особенности». И ведь в самом деле: в глазах Запада образ Ивана Грозного или казнь декабристов затмили образы его собственных кровавых королей и его бесчисленные казни. В 1826 году, ровно через неделю после воздвижения пяти тайных виселиц в Петропавловской крепости, в Испании перед толпами народа был сожжен на гудящем и слепящем костре еще один из нескольких десятков тысяч еретиков. Но кто вспоминает об этом и содрогается – так, как вспоминают и содрогаются о декабристах? И уж конечно, никто не «стыдится»…