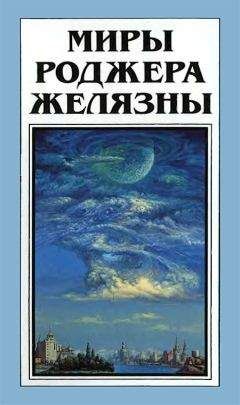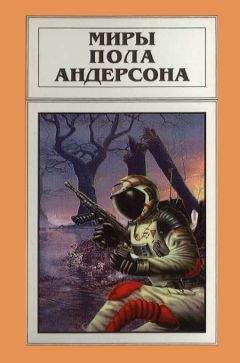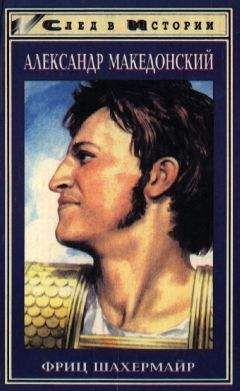и возродилось с новой силой при Александре I. Скрытность масонов, своеобразие их ритуалов и слухи о связи некоторых лож (в особенности мартинистских, наиболее склонных к мистицизму) с Французской революцией создали масонству репутацию опасного бунтарского движения. Тем не менее его духовная основа была притягательной для людей, которые под влиянием западного рационализма разочаровались в православном христианстве, но не утратили потребности в вере; однако и эти духовные поиски рассматривалась как признак недостаточной лояльности по отношению к официальной церкви.
Помимо этих организованных групп, существовало неформальное общение дворян – прежде всего в салонах, игравших заметную роль в жизни крупных городов. Салоны регулярно устраивали как видные представители российской элиты, так и иностранные дипломаты, зачастую приглашая в них постоянную публику. Салоны варьировались по степени своего престижа; некоторые из них (например, салон великой княгини Екатерины Павловны, существовавший в Твери в 1809–1812 годы) имели четко выраженную политическую направленность. Практически все петербургские салоны в 1807 году отказали в приглашении наполеоновскому послу, что явилось открытым выражением недовольства по поводу Тильзитского мира.
Салоны, масонские ложи и государственные учреждения служили моделями для других возникавших в то время организаций, имевших политическую окраску. По образцу салона, в частности, в 1810 году была создана «Беседа любителей русского слова», которая стала первой официальной общественной организацией, имевшей целью пропаганду консервативных идей. Начавшиеся после 1815 года конспиративные встречи будущих декабристов продолжили традицию секретности масонских лож. Третий тип публичных собраний, который приобрел особое значение также после 1815 года, воспроизводил структуру и порядки государственных учреждений. Таким было Российское библейское общество (членство в нем считалось чуть ли не обязательным для тех, кто занимал или желал занять высокое положение в обществе). Будучи формально независимой организацией, общество на самом деле являлось наполовину правительственной структурой, с соответствующей иерархией.
В правительство входили те же лица, которые состояли в ложах и посещали салоны, и потому оно обычно было хорошо информировано о мнении публики. Кроме того, оно постоянно прибегало к услугам полицейских осведомителей, а нарушение конфиденциальности почтовых отправлений являлось будничным делом, так что люди избегали критиковать монарха в личной переписке. Установился modus vivendi, при котором публика выражала свое мнение шепотом и намеками, дабы не провоцировать репрессивных действий со стороны властей, правда власти научились расшифровывать используемые эвфемизмы. Однако, принимая грозный вид для устрашения публики, правительство в то же время прислушивалось к общественному мнению и иногда уступало его требованиям. Разговоры в салонах, самостоятельно выпущенные памфлеты, собрания масонских лож вовсе не были случайной ответной реакцией на усиление авторитарной политики, а служили активным компонентом политического процесса российского самоуправления [10].
Широкая публика смутно представляла себе сущность различных идеологических течений того времени – отчасти из-за особенностей политических процессов, происходивших в России начала XIX века. Достижение высокого положения в обществе зависело не столько от поддержки общественного мнения, сколько от благосклонности и покровительства людей у власти. Возникали прочные связи между влиятельными лицами и теми, кому они оказывали поддержку в обмен на преданность [11]. Примером могут служить отношения между двумя фигурами, игравшими важную роль в истории консерватизма: великой княгиней Екатериной Павловной и Ростопчиным, которых объединяли близость политических взглядов, связи с Павлом I и дружба с Карамзиным. Реальная власть зависела от отношений с правителем и его доверенными лицами, а не от титулов или занимаемой должности. Так, Шишков сменил в 1812 году М. М. Сперанского на посту государственного секретаря, однако не унаследовал его влияния, поскольку не пользовался таким же, как Сперанский, доверием царя. В отличие от него, А. А. Аракчеев с 1821 года фактически самовластно руководил всей внутренней политикой – и не столько благодаря своему высокому посту, сколько потому, что Александр ему доверял. Личные отношения с сильными мира сего лежали в основании всей системы и препятствовали образованию независимых, идеологически сплоченных групп и блоков.
В данном исследовании учитываются личностный характер российской политики начала XIX века и ее взаимосвязь с общественным мнением. За отсутствием реальных партий и четко обозначенных идеологических платформ история политической мысли и практики данной эпохи сводится к выявлению диалектических взаимоотношений между той или иной личностью и ее окружением. Личный опыт различных людей, сформированный под влиянием господствующих в обществе социальных установок, систематизировался и уточнялся, образуя определенные взгляды, которые в совокупности формировали, в свою очередь, взгляды общества в целом. Таким образом, история русского консерватизма с 1800 года по 1820-е – это история жизни различных поколений и их социокультурной среды, которую удобнее всего изучать на примере отдельных фигур, типичных для этого направления и наиболее полно выражающих его коллективную идеологию. Личности, которым в первую очередь посвящена данная работа, – Шишков, Глинка, Карамзин, Ростопчин, А. Стурдза, Р. Стурдза, Голицын, Рунич – оставили большое количество письменных сочинений и очень часто упоминаются в письмах и мемуарах современников, поэтому их жизнь и взгляды можно описать с достаточной достоверностью. Разумеется, выводы об их влиянии на общественное мнение необходимо делать с большой осторожностью, но я полагаю, что значительное количество доступных источников дает неплохое, пусть даже и методологически устаревшее представление о том, как воспринимало общество идеи консерваторов и их деятельность.
И наконец, необходимо сказать несколько слов об историографии консерватизма Александровской эпохи. Существует много научных трудов, созданных до революции 1917 года, – это, в частности, работы пионеров данной тематики А. Н. Пыпина, С. П. Мельгунова, Н. Н. Булича, А. А. Кизеветтера, а также более специализированные исследования Н. Ф. Дубровина, И. А. Чистовича, А. А. Кочубинского, М. И. Сухомлинова, В. Я. Стоюнина и других. Это ценный материал, но методологически устаревший. Сочинения указанных авторов пронизаны страстями предреволюционной эпохи, что делает их – в частности, работы Мельгунова и Кизеветтера – чрезвычайно интересными для чтения, но заставляет усомниться в адекватности их интерпретации событий. Нарисованные авторами образы консерваторов ранней эпохи окрашены впечатлениями, полученными в годы правления Александра III и Николая II; к тому же они и сами не скрывают своего намерения изучать прошлое для того, чтобы оценить настоящее. (Информация об их работах, как и обо всех прочих, использованных в данном исследовании, собрана в списке литературы в конце книги.)
После 1917 года начало XIX века рассматривалось в русской историографии сугубо в контексте роста революционного движения. Советские историки неизменно проводили резкое и зачастую искусственное разграничение между прогрессивными деятелями и реакционерами. Они старательно собирали документы, воссоздававшие славную историю декабристов, а их современников-консерваторов преподносили как бездарей. Поведение элиты эти историки объясняли исключительно внешними факторами (материальными затруднениями, бунтарством крестьян, развитием «буржуазных» экономических отношений), а роль культуры и идеологии недооценивали. Подобный уклон