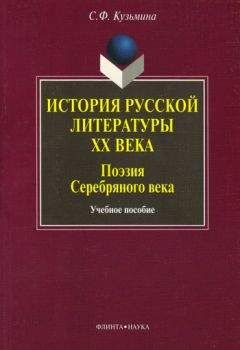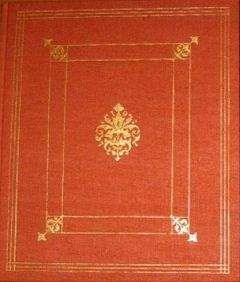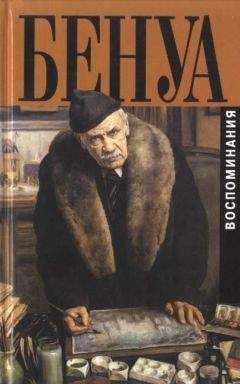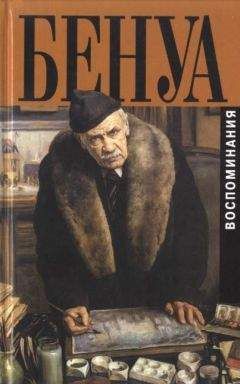Мир природы и мир человеческий в поэзии раннего Есенина увидены сквозь призму и язычества, и христианства, которые оказываются слиты в едином сюжете-мистерии. В «Песне о собаке» (1915) человеческая жестокость восполняется Божьей милостью – один из утопленных щенков, который сравнивается с месяцем, взят на небо. Основой поэзии Есенина являлся прием олицетворения природных явлений, выстроенных на загадке, переносе качеств одного явления на другое, по принципу метафоры или метонимии, что характерно и для народного творчества. Эти принципы стали основными для поэтики Есенина. В своем манифесте «Ключи Марии» (1918) поэт писало законах славянской мифологии, глубинной связи предметов ежедневного пользования и представлений о законах вселенной. Свою задачу видел как обнаружение «узловой завязи природы с сущностью человека» [263]. Поэт, воссоздавая законы крестьянского космоса, использует «мистическое изографство». Художественное письмо такого типа позволяет реальный мир увидеть сквозь призму мифопоэтического народного восприятия. О «мистическом изографстве» как о «двойном зрении, оправданном двойным слухом» Есенин писал в неотправленном письме 1921 г. к Р. Иванову-Разумнику [264]. В стихотворении «Табун» (1915) создается изоморфный космическому видению образ табуна коней, который и реален, и метафизичен, поскольку неотделим от таинства вселенской жизни:
В холмах зеленых табуны коней
сдувают ноздрями златой налет со дней.
С бугра высокого в синеющий залив
упала смоль качающихся грив.
Дрожат их головы над тихою водой,
и ловит месяц их серебряной уздой
В поэтике Есенина метафоры возникают на пересечении переносного значения с точной семантикой конкретных деталей природы и крестьянского быта; используются диалектизмы, приметы, заговоры, песенные и частушечные ритмы. Синтаксис прост, фразы закончены в границах стихотворной строки, смысл и мелодика стихотворения соподчинены единому замыслу, характерным приемом является параллелизм состояний души и природы:
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется, на душе светло.
Широко известным поэтом Есенин стал после выхода его поэтических сборников «Преображение», «Сельский часослов», «Голубень» (все – в 1918), атакже «Трерядница» (1920). «Письмо к матери», стихотворения о природе и любви, отмеченные особой, присущей только Есенину интонацией, казалось, не были сочинены, столь органичными и естественными были их поэтический строй и чувства. Б. Пастернак подчеркивал: «Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею. <…> Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве» [265].
Революция была воспринята Есениным как исполнение обетовании «новой земли и нового неба». Он сблизился с Р. Ивановым-Разумником, теоретиком «скифства» и неона-родничества, считавшего, что грядет революция духа, которая выдвинет Россию на первое место среди всех народов, так как она обладает духовной уникальностью. В течение августа – ноября 1917 г. поэтом создаются «маленькие поэмы»: «Октоих», «Пришествие», «Преображение», в которых воплощается напряженное ожидание принципиального обновления мира. Отменялся «старый» Христос, ожидался новый Спаситель: «Новый на кобыле/ Миру едет Спас». Есенин взял на себя задачу создания поэтически выраженного мужицкого крестьянского Завета. Разрушительные вихри истории были увидены в масштабах вечности и истории народа. В основе поэм «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик» (обе– 1918) и «Пантократор» (1919) лежат модернизированные и мифопоэтически осмысленные библейские сюжеты, которые проецируются на современные события.
Поэтика Есенина 1920-х гг. строится на соотнесении небесного и земного, в библейской перспективе и масштабе нынешних и будущих жизненных и исторических потрясений, на утверждении роли поэта как «тринадцатого апостола». В «Октоихе» звучит вопрос:
О Боже, Боже, Ты ль
Качаешь землю в снах?
Созвездий светит пыль
на наших волосах…
В «Инонии» рождается образ «главы… власозвездной» поэта. Религиозные, лирические и символические образы втягивали в свой крут освященные веками имена Китежа и Радонежа. Себя поэт уподобляет одному из апостолов, который, однако, отрицает учение Христа и совершает кощунство над евхаристией. Этот «сюжет» и его глубинный смысл был раскрыт Ф. Достоевским (глава «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г.).
Не устрашуся гибели, ни копий,
ни стрел дождей, —
так говорит по Библии
пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
на страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
выплевываю изо рта.
В конце «Инонии» поэтом провозглашается новая вера и новая жизнь.
Эти произведения Есенина, как правило, не рассматривались официальной советской критикой, упрекавшей поэта за «религиозность» и утверждавшей, что он «все еще плутает среди трех сосен отжившего православия» [266]. В русском зарубежье эти поэмы получили противоречивые оценки. М. Слоним рассматривал их в русле «мессианистической» поэзии, рожденной «Двенадцатью» А. Блока, с «уподоблением революционной России воскресающему Христу» [267]. Вл. Ходасевич указывал на псевдохристианский характер образности этих произведений [268]. Резко отрицательно об «Инонии» отозвался И. Бунин, увидев в ней надругательство над русскими духовными святынями.
Ожидания Есениным «крестьянского рая» оказались утопичны. Гражданская война и жестокий голод в Поволжье заставили поэта отказаться от утопических взглядов. Осознание утраты истинных путей приводит Есенина к трагической и сюрреалистической образности. В поэме «Кобыльи корабли» (1919) возникают страшные образы: «Бешеное зарево трупов», «Облетает под ржанье бурь / Черепов златохвойный сад», «Злой октябрь осыпает перстни / С коричневых рук берез», – само естество приобретает гротескно искаженный вид: «Посмотрите, у женщин третий / вылупляется глаз из пупа. / Вот он! Вылез, глядит луной, / Не увидит ли помясистей кости…». Звучат и провидческие строки: «Веслами отрубленных рук / вы гребетесь в страну грядущего». Н. Асеев указал на «правдивость попыток отобразить искаженные гневом и болью черты мученического лика народа» [269]. Уничтожение человеческого – главная черта современности, звери и люди меняются местами, «братья меньшие» ближе поэту, чем мир человеческого самоутверждения, своеволия насилия:
Кто это? Русь моя, кто ты? Кто?
Чей черпак в снегов твоих накипь?
На дорогах голодным ртом
Сосут край зари собаки.
Им не нужно бежать в «туда» —
Здесь, с людьми бы теплей ужиться.
Бог ребенка волчице дал.
Человек съел дитя волчицы.
Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.
Если голод с разрушенных стен
Вцепится в мои волоса, —
Половину ноги моей сам съем,
Половину отдам вам высосать.
В конце поэмы «Кобыльи корабли» поэт признается, что пришел в этот мир, чтобы «Все познать, ничего не взять».
В пореволюционные годы Есенин обращается к проблеме русского бунта в поэме «Пугачев» (1921). Конфликт между властью и крестьянством отражен также в поэме «Страна негодяев» (1922–1923). Поэт пережил крах своей утопической веры в крестьянский рай на земле. Стихотворение «Я последний поэт деревни» (1920) – плач по России-храму и крестьянской культуре. На смену старому укладу приходит новая «железная» культура, в которой нет места поэту. «Стальное» во многих стихотворениях, в том числе и в «Сорокоусте» (1920), ассоциируется с мертвым и обманно-дьявольским. Трагический тон звучит в стихотворении «Русь бесприютная» (1924), посвященном малолетним беспризорникам. Собственная неуместность в новой жизни скрывается за шутливым желанием, «Задрав штаны, / Бежать за комсомолом», но там же автор «Руси уходящей» признается:
Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.
И хотя поэт ищет возможность примирения и гармонии двух обликов Руси («Но и все же хочу я стальною / Видеть бедную, нищую Русь»), внутренний конфликт с историческими событиями, которые были до конца не понятны Есенину («С того и мучаюсь, что не пойму – / Куда несет нас рок событий», – признавался он в «Письме к женщине», 1924), привели к поискам новых творческих контактов. Порывая с Н. Клюевым, Есенин входит в группу имажинистов. В биографическом очерке «О себе» поэт писал: «В 1919 г. я с рядом моих товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом» [270]. Концепция А. Мариенгофа во многом объясняет, почему Есенин выбрал именно имажинизм. «Имажинизм не формальное учение, – утверждал А. Мариенгоф, – а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мертвой и живой природы своей родины» [271].