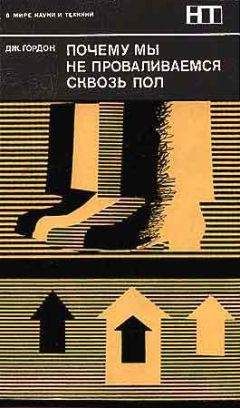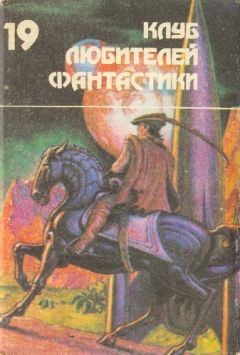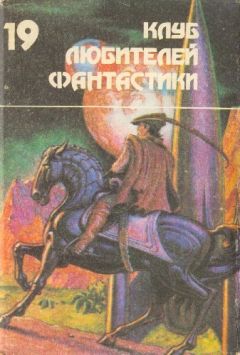церкви, не идеализировал католицизм» [682].
Осиновский подтверждает, что опасения Сказкина были не напрасны и что «одна-единственная аналогия с Ветхим Заветом» в комментариях к «Утопии» едва не обернулась большим скандалом. А Поршнев предпослал своему главному труду первую строку Евангелия от Иоанна. А кроме того, принял в этом труде в качестве исходной библейскую трактовку об уникальности человека в природном мире и солидаризовался в известной мере с философским дуализмом Декарта. А еще проводил в своих работах связь христианства с социальным протестом и собирался написать книгу об Иисусе Христе.
Намечается та же траектория успеха по-советски, что я отметил на примере однокашников Захера и Бирюковича в предыдущей главе, только куда контрастней и масштабней. Сказкин добился, кажется, полного успеха в жизни – окруженный свитой учеников академик, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда. И на всю жизнь остался запуганным, капитулировав перед идеологическим каноном в виде воинствующего атеизма. О внушаемости академика упоминал Гуревич: Сказкин был «абсолютно управляемым всеми, кто имел отношение к власти, к авторитету, кто мог внушить ему некоторый трепет – а его легко было напугать» [683]. С этой слабостью, похоже, было связано и то, что у лидера корпорации медиевистов, возглавившего ее после дискуссий с Поршневым, не осталось и монографии по средневековой истории.
Поршнев не поддался этой общей слабости медиевистов (и не только) советской поры, издавая свои монографии [684]. Умирая, подавленный уничтожением в издательстве его главного труда и провалом на академических выборах, Б.Ф. мог все же с полным правом противопоставить жизненному успеху академика, героя, депутата убежденность в творческой реализации, в том, что «выполнил главное дело своей жизни» [685].
Он действительно сделал, что мог на избранном пути. Да, его система может отталкивать анахронизмом «дискурса», а его подход – «монологизмом». Поршнев не просто позиционировал себя приверженцем официального учения; у него было достаточно оснований воспринимать себя последователем Маркса в ленинской версии его теории. Но все эти вопиющие для умонастроения постсоветской научной общественности проявления «ограниченности» не могут заслонить очевидное: у поршневской «системы истории» оказался запас прочности. Потому следует поразмыслить об ее «апориях».
Обратимся к марксизму. Не по «трем источникам – трем составным», а к сочинениям Самого, к трем его творческим «ипостасям» – политической, политэкономической и антропологической. Как Поршнев соотносился с политическими сочинениями основоположников и главным – «Комманифестом»? Конечно, слоган «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» можно представить путеводной звездой. А дальше? Оппоненты на дискуссии медиевистов (Сказкин) упрекали Поршнева за недооценку революционной роли буржуазии в истории, как эта роль провозглашена и описана в том же сочинении.
А как Поршнев относился к Марксу-политэконому? Да открыто упрекал за то, что в каноническом труде «Капитал» не показана роль классовой борьбы [686]. А Маркс-антрополог? Поражает, что Поршнев, готовя свой труд об антропогенезе, никак не отреагировал на публикацию «Экономических рукописей 1857–1859 гг.» в вышедшем в 1968 г. 46 томе сочинений Маркса-Энгельса (между тем эта публикация стала стартовой площадкой для «нового прочтения» основоположника в СССР). А вклад Энгельса как антрополога Поршнев просто отверг, противопоставив концепции «труд создал человека» библейское «В начале было слово».
Остаются Ленин и Сталин. Эмманюель Ле Руа Ладюри, оценив «Народные восстания перед Фрондой» как «замечательную книгу», вместе с тем отнес предложенную Поршневым «объяснительную схему» к «ленинско-сталинской» традиции и подчеркнул, что анализ Марксом Старого порядка был «более тонким» [687]. А французский историк, будучи ревизионистом, в классике разбирался.
Однако и в отношении Поршнева к «ленинско-сталинской традиции» не все так просто. Последовательный антикапитализм Б.Ф. плохо согласуется с мыслями Ленина о прогрессивной роли капитала, с классическим трудом «Развитие капитализма в России». Отстаивая активную роль сознания, Поршнев «обошел» (с почтительными реверансами относительно вклада Ленина в социальную психологию) «теорию отражения». Мало что можно узнать у него о базисе-надстройке, о сформулированном Сталиным «законе соответствия производственных отношений уровню развития производительных сил».
В «системе истории» Б.Ф. выступает другой движитель исторического процесса – борьба народных масс: «Борьба трудящегося человечества против гнета и эксплуатации всегда была великой творческой силой истории, а отнюдь не борьбой за смену одной формы эксплуатации другой» [688]. История этой борьбы и виделась Поршневым, как можно предположить, историей пути человечества к коммунизму, да и сам коммунизм выступал негативно-эсхатологически, как отрицание всей формационной траектории исторического процесса. И собственно «пятичленку» из «Краткого курса» о поступательной смене формаций Поршнев подменил своей концепцией исторического процесса как поступательного движения внеформационной или надформационной Революции.
Признаю: даже если Поршнев использовал формационную схему «Краткого курса» только как каркас для своей концепции, издержки очевидны. Усматриваю их и в универсальности рабовладельческой формации [689], и в ущербности, если не сказать порочности, буржуазной (обычно Французской) революции [690] как «коренной» противоположности, по Сталину, Октябрьской социалистической, наконец – в представлении о коммунизме как пределе – «конце [691] истории».
В учении Маркса Поршневу оказалась ближе идея антагонистичности истории, отсюда, думается, название его «системы истории» – «критика человеческой истории». Эту идею, вопреки Марксу, он распространил и на предысторию. Можно сказать и так, что в центре внимания Поршнева оказалась история человеческого разобщения. Однако он стремился показать – и в немалой степени это ему удалось – что раз-общение не останавливало общения и, в конечном счете, в той или иной форме возникала общность.
Есть у меня и третье изъяснение «критики человеческой истории». Поршневская «система истории» – это система властных отношений, проистекающих из антропологического двуединства повеления и неповиновения. Выведя это двуединство из фундаментальных особенностей палеопсихологии человека, Поршнев распространил свою новеллу на всю историю человечества.
И то, что я не могу найти единого и единственного толкования ни для себя, ни в литературе – лучшее свидетельство неисчерпаемости «поршневианы». Продолжающееся издание его трудов, в том числе за рубежом, обсуждение вклада Поршнева в мировую науку [692] тому подтверждение. А продолжающееся интенсивное изучение его творчества и – самое многообещающее – рукописей работ, оставшихся неопубликованными, сулит еще немало открытий.
Во всей многослойности моих впечатлений стойко сохраняются две картины. Прощание, конференц-зал Института на ул. Дм. Ульянова, где так часто раздавался высокий звонкий («зычный», по его собственным словам) голос ученого. Народу не много. Мы подошли вместе с Адо, и распорядитель тут же предложил нам встать на траурную вахту. «Пойдемте, Саша», – сказал Анатолий Васильевич. Я начал мямлить, что мне, так сказать, по статусу не положено, имея в виду свою академическую маргинальность. «Ну а мне как раз по статусу и положено», – возразил Анатолий Васильевич, подразумевая отношения ученика и учителя. Само собой, я двинулся за ним.
Меня так