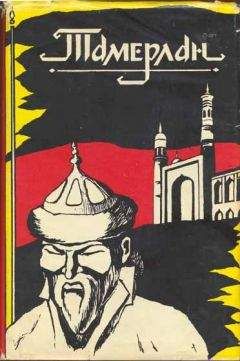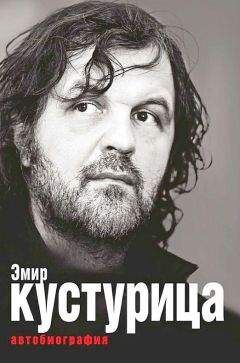Он сбросил гуламам в руки свою корону, которая жгла ему голову, и мантию, давившую на плечи, и поднялся в свою опочивальню расположенную па втором этаже напротив женской половины, и открыл шестигранное окно, застекленное цветными стеклами..
Стояла обычая прохладная весенняя ширванская ночь - то со стелющимся по земле туманом, то с внезапно прояснившимся небом, усыпанным крупными яркими звездами.
Из больших глиняных плошек на башнях городских крепостных стен рвались огни, нефть вперемешку с углем горела буйным пламенем, и в свете огней отчетливо было видно всю крепостную стену длиною в три тысячи шагов, караван-сараи и базары меж ними с рядами лавок. Властители ночей - миршабы, разделившись по трое, ходили по улицам, ведя в поводу своих коней и соблюдая тишину и порядок. От всех других эта ночь разнилась разве что и тем лишь, что вокруг города меж холмов, на лужайках между тутовыми садами и низкими длинными каменными червоводнями горели небольшие неяркие костерки. Вокруг них сидели, очевидно, ширванцы, оставшиеся на ночлег.
Ибрагим, несколько успокоенный тем, что сумел убедить гаджи Фирндуна, в необходимости и неизбежности исполнить все, как велено, обвел взглядом мдрко сидящих у кестров подданных, послушал мерный цокот конских подков по булыжной мостовой, ощутил кожей лица росистую прохладу гор и, обмякши от всего этого, позволил себе прилечь ненадолго на свое ложе.
Но и в эту ночь ему не суждено было хоть на час забыться сном. Насими, добравшись из Шабрана до места, где его ждали гасиды, сказал им: "Исцелите мое тело и доставьте меня скорее в Шемаху". Гасиды срочно предупредили дежурных мюридов, те, в свою очередь, поверенных Фазла во всех двадцати четырех мечетях двадцати четырех ремесленных кварталов Шемахи и багадуров Гёвхаршаха в военной крепости.
Закрыв глаза, резь и жженке в которых стали нестерпимы от многодневной бессонницы, и, впав в полуобморочное забытье, Ибрагим вдруг вскочил, ощутив какой-то непонятный переполох в городе, и увидел Шемаху бодрствующей.
Дворы всех двадцати четырех мечетей в двадцати четырех ремесленных кварталах были полны людей, жесты и позы которых выдавали их напряженность и беспокойство. Весь ремесленный люд был переполошен. Что случилось?
Ибрагим, успев только подумать, что надо вызвать слуг и узнать, что произошло, услышал вдруг высокое, чистое, сильное пение - оно доносилось с горного склона справа от Шемахи, там, где сходились пути из Шабрана и Лешгергяха. Оттуда стремительно в сторону Шемахи шел хуруфит в белой хирге с широко развевающимися полами. Голос его разнесся над ночным городом, и все толпы во дворах мечетей замерли.
Ибрагим, переводя взгляд с городских толп на белеющий силуэт на горном склоне, услышал явственно строку мунаджата - обращения к богу, которое хуруфит превратил в обращение к людям:
"Выслушайте меня, эй люди, несущие в себе бога!"
Ибрагим мог бы выделить этот голос из голосов десятка муэдзинов и певцов и узнать эту походку, рост и осанку среди тысячной толпы. И, узнав этого человека, он почувствовал редкие, сильные удары сердца. Если идет Насими, значит, Фазлуллах не придет?! Значит, все приготовления напрасны и ему не избежать мести тирана?!
Чтобы предотвратить крах, он как за последнее спасение ухватился за мысль передать в руки черных мюридов шейха Азама всех, начиная от гаджи Фиридуна и до гасидов-связных, чтобы под пыткой ржавыми гвоздями выведать местонахождение мюридов Фазлуллаха и срочно послать на расправу отряд шейха Азама.
И тут Ибрагим увидел в окно нечто невероятное и совершенно непредвиденное. Когда черные мюриды, появившись из-под арки ворот, черной тучей окружили человека в белой хирге, то устремившиеся к ним с трех сторон - с горы, с Лешгергяха, из-под крепостных городских стен и из дворов мечетей - багадуры Гёвхаршаха, гаджи Фиридун со своим отрядом и ремесленный люд, оттеснив и разогнав черных мюридов, считавшихся неприкосновенными, тесным кольцом обступили Насими. И, войдя вместе с ним из третьих справа ворот в нагорную часть Шемахи, где в кварталах Шабран и Мейдан жила знать, и оглашая воздух криками "Анал-хакк!", стали подниматься к Гюлистанскому дворцу.
Со слов Гёвхаршаха и гаджи Фиридуна Ибрагим знал уже, что во главе каравана будет стоять Насими, но ни тот, ни другой не сказали ему, что одним из условий преданности Хакку была охрана жизни Насими, и происходящие события потрясли его своей полной неожиданностью. Сбросив халат, ночной колпак и нетерпеливым жестом отвергнув услуги гуламов, он быстро оделся сам и спустился на Мраморную площадь. Его била мелкая дрожь. Так несчастен, как сейчас, шах не был никогда. Ибо прозрел он деяния своего сына и наследника, своих вельмож, своих подданных, сполна осознал истину слов Тимура: "Он передал свой трон Фазлуллаху". Как же остер взгляд тирана, который смотрит на Ширван из далекой дали! Ибрагим же, ничего не упускавший из-за частокола своих ресниц и считавший себя всевидящим, оказался попросту слепцом. Еще несколько месяцев тому назад, когда Гёвхаршах привел послов Фазлуллаха в Гюлистанский дворец, не признался ли он откровенно, что учение Фазла постигают и багадуры? И как же тогда Ибрагим не понял, что багадуры выйдут из-под его власти, и не предвидел то, что происходит сейчас? Он и мысли не допускал, что Гевхаршах и багадуры могут поставить службу Фазлуллаху выше, чем службу ему - законному и любимому шаху! Или, может быть, слепота его - следствие того, что, приютив и оказывая покровительство хуруфитам, он за семь лет не сделал ни одной попытки ближе узнать ни самого Фазлуллаха, ни его учения, пи тех людей, которые встали сейчас горой в защиту его правды? Избегая ереси, которая, начавшись отсюда, из Ширвана, пленила Азербайджан, Иран, Ирак и, как говорят, Сирию, Египет, не уходил ли он и не отрывался от своего Гёвхара с его багадурами, преданного слуги гаджи Фиридуна, верного ему ремесленного сословия - опоры его власти?! И если армией его командовал не наследник его принц Гёвхаршах, а мюрид Фазлуллаху Амин Махрам, и связи шаха с хуруфитами осуществлял не верноподданный ему гаджи Фиридун, а Дервиш - Гаджи, и вместо преданного ему ремесленного люда в Шемахе сейчас действуют еретики, лишенные божьего страха, прогнавшие безбоязненно неприкосновенных черных мюридов, и всем этим управляет воля Фазла, то не подтверждает ли это, что он действительно отдал свой трон Фазлуллаху? И где теперь искать ему спасения, когда роковой срок подходит к концу и тиран теперь уж потребует не ста тысяч голов, а столько, сколько голов в его личной армии?!
К Ибрагиму, стоявшему в растерянности и смятении на Мраморной площади, подошел гаджи Фиридун и с мягкостью, такой странной после его давешнего, упрямого непокорства, доложил шаху, что Насими требует встречи с ним. Ибрагим, зябко скрестив руки на груди, чтобы унять дрожь в теле, походил взад-вперед и остановился перед гаджи Фиридуном:
- Что он хочет?! С чем пришел?!
- Он был у Тимура, шах мой.
- Что?! Насими?! У Тимура?!
- Да, шах мой!..
- И вернулся целехонек?!. Какой простак поверит в это, гаджи?! Что он хочет сказать мне? Поди узнай, о чем его слово..
Гаджи Фиридун, пряча недовольство под мягким укором, сказал:
- В каждом слове Насими содержится тысяча слов! Только сам он может сказать тебе свое слово, шах мой!
Ибрагим понимал, что гаджи Фиридун прав, но не согласился с ним.
- В чем суть его намерений? Бунт против сдачи Фазлуллаха? Если так, то на что он рассчитывает, на какие силы против Тимура? Можешь узнать? Только это мне надобно!
Гаджи Фиридун молчал. Бросив на него злой взгляд, Ибрагим вновь заходил взад-вперед.
Как всегда, на башнях горели буйные огни, и чырагдары следили, готовые подлить в плошки нефти и подсыпать угля, когда пламя чуть ослабевало. Конюхи, увидев шаха на площади, встали наготове у стойл, полагая, что будет срочный выезд. Гуламы, скрестив руки, следили, стоя под аркой парадной дворцовой двери, за каждым движением шаха, чтобы подбежать и оказать нужную услугу, а джандары-телохранители, обнажив мечи, стояли поодаль, готовые следовать за ними. Гюлистанский дворец жил своей обычной жизнью, придерживаясь установленного распорядка.
Но за дворцовыми воротами бурлил и гудел народ, и дворец вдруг показался Ибрагиму сиротливым и брошенным, озноб в теле усиливался. Когда же с минарета шахской мечети раздался утренний азан, напоминая начало третьего - последнего дня срока, Ибрагим резко остановился и налитыми кровью глазами посмотрел на гаджи Фиридуна; с языка у него сорвалось лишь одно слово: "Изменник!"
Пройдут годы, настанет день, когда в судилище ширваншаха высокий суд обвинит в измене трону и короне еретика, бакинского правителя, председателя моря и всех его плодов гаджи Фиридуна, а Ибрагим, неожиданно прервав словопрения, скажет с потрясшей всех откровенностью: "Мы сами повелели ему принять под свое покровительство скитальцев, в этом гаджи Фиридун невиновен. А если он увлекся ересью, то пусть отречется от нее и тем снимет с себя вину". Так попытается Ибрагим спасти гаджи Фиридуна от казни, потому что в увлечении ересью как гаджи Фиридуном, так и любимым сыном Гёвхаром был повинен сам шах, принесший в жертву своей политике самых дорогих его сердцу людей. Но полностью свою вину и ответственность Ибрагим осознает в будущем, когда дорогих ему людей будет судить высокий суд, теперь же, когда над головой его муэдзин, глядя на толпы нечестивцев, с ужасом в голосе прокричал "аллаху-акбар!" и гибель, идущая со стороны Шабрана, стала так очевидна, что он, бросив гаджи Фиридупу: "Изменник!" - не колеблясь решил тут же предать его черным мюридам шейха Азама под пытку ржавыми гвоздями. Будь возле Ибрагима человек, проникший в его мысли, решившийся сказать ему, что шах, когда-то высвободивший послов Фазлуллаха из железных клеток и от пыток черных мюридов, и шах, пришедший к чудовищному решению предать пыткам своего верного и любимого подданного, - это разные, полярно-противоположные люди, ибо - в Шабране, куда он отвез свою казну, под воздействием страха, внушенного Тимуром, он лишился самого драгоценного своего достояния - государственного мышления; будь возле человек, который сказал бы все это Ибрагиму, он, возможно, и увидел бы себя со стороны, но рядом с ним не было такого человека. Гёвхаршах мог бы остановить его, но Ибрагим и его отослал от себя.