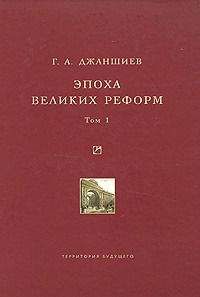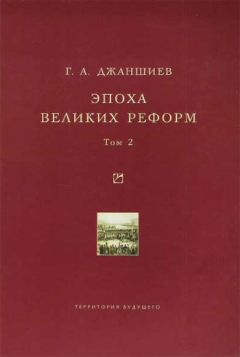Трогательна и внушительна была эта, увы! краткотечная идиллия кануна объявления воли, когда образованные люди без различия оттенков политического мировоззрения дружным хором, сначала втихомолку и шепотом, а потом, с облегчением цензурных пут, вполголоса и фальцетом – приветствовали если не наступление зари, пока едва заметной, то конец ночи. Славянофилы, только что анафематствовавшие «гнилой запад» со всеми его нечистыми наваждениями, принимали «освободительную программу западников до железных дорог включительно»; безразличные или хамелеоны, бессознательно либо с расчетом принимающие окраску, господствующую и выгодную в данное время, поражали полетом своих либеральных парений. В эту героическую эпоху первого упоения освободительными мечтаниями «патриот из патриотов» Погодин, – старый профессор «московского пошиба», самобытный мыслитель Баян, неуравновешенный фантазер и ловкий ученый публицист «себе на уме», претендовавший одновременно на амплуа Ростопчина, Ивана Корейши и славянского Гарибальди – подавал дружески руку новому восходящему светилу радикального лагеря, общепризнанному преемнику Белинского, молодому гениальному мыслителю, ученому публицисту Современника, бывшему саратовскому семинаристу Чернышевскому; благонамеренные, в хорошем смысле слова, но недальновидные Аксаковы – буйно-честному поборнику свободы Герцену; умеренный и аккуратный цензор-процессор Никитенко и «англоман», а впоследствии привилегированный сикофант, Катков – народолюбцу Салтыкову и другим петербургским радикалам и т. д. Знаменем, объединяющим всех этих лиц, пути которых так далеко разошлись впоследствии, была великая освободительная миссия нового царствования – с крестьянскою волею во главе!..
Это страшное, но неотступное, неотвратимое, как фатум, крестьянское дело заставило своими колоссальными размерами все другие начинания, молча, но повелительно требуя немедленного ответа. Гигантское народное дело, превозмогая шутя, словно смеясь, хитросплетения тонких бюрократических дел мастеров, жалкие усилия знатных чадолюбивых душевладельцев, истощавших все силы свои, чтобы еще раз заклясть по примеру прежних лет этот неугомонный дух свободы, этот проклятый крестьянский вопрос, не раз уже похороненный, казалось, навсегда, и увы! все еще не умирающий, – это неотвязное дело стояло таинственно и грозно, как тень отца Гамлета, пред смущенными взорами оторопевших Гамлетов Щигровского и других уездов, взывая об уничтожении вековой неправды. Одни из них ужаснулись скоро, увидев во всем объеме это колоссальное дело о земле и воле и отпрянули в ужасе, как Фауст, при появлении вызванного им же духа земли; другие бесстрашно и доверчиво взглянули в глаза страшному вопросу. Но это разделение произошло впоследствии, а покуда, в первые годы освободительного царствования, передовое русское общество и правящие сферы, в общем, несмотря на диссонансы, представляли назидательную картину оживленного дружного приготовления к большому делу.
Благодаря усиленно бьющемуся пульсу общественной жизни, чуть не ежедневно приходилось «делать» историю; неустанно работавшая реторта истории выбрасывала чуть не целиком «дневник происшествий» и текущую хронику злоб дня в виде робких попыток к освобождению той или другой стороны общественной жизни со столбцов газет на страницы истории…
В числе этих «злоб дня» было и освобождение университетов от крайнего гнета, которому они подверглись с 1848 г. На первых же порах нового царствования были отменены крайние меры (комплект в 300 человек и проч.), но ничего решительного не предпринималось, потому что всему загораживал дорогу крестьянский вопрос. Так или иначе нужно было приступить к распутыванию этого «гордиеваузла», который парализовал все жизненные силы России. Два с половиною года прошло в мучительных работах, парализуемых напрасными усилиями врагов свободы замять, затянуть этот роковой вопрос. Все тонкие соображения, хитрости и угрозы крепостников Секретного Комитета, думавшего не об уничтожении, а об укреплении рабства, не повели и не могли повесть ни к чему. В 1857 г. так же грозно-повелительно, как и в 1855 г., продолжал стоять на очереди, как неотвязная злоба дня, вопрос об отмене рабства, за разрешением которого молча, но с крайним нетерпением следило 23-миллионное крепостное население, прекрасное и страшное в своем сосредоточенно-выжидательном положении (см. главу I) и вперившее, наподобие сфинкса, в рабовладельческую Россию свой неумолимо-испытующий взор с роковою угрозою на устах: «разреши, не то погибнешь!»[524].
Сознавая трудность положения, государственные деятели нового царствования, довольно долго остававшиеся на старых постах, с трудом справлялись даже и с текущими задачами нового освободительного направления, нередко сознательно или бессознательно ему противодействуя[525]. В частности по учебному ведомству замечались скачки и противоречия помимо общих причин[526] еще и потому, что стоявший во главе его до марта 1857 г. слабоумный, неспособный[527] министр не имел никакого авторитета, так что, например, сравнительно второстепенный, несложный вопрос об изъятии провинциальных университетов из ведения военных генерал-губернаторов с трудом был проведен Норовым[528]. Но впоследствии, как сказано, постепенно отменялись несогласные с духом времени стеснения, допущенные с 1848 г. Университеты де-факто понемногу заняли положение, бывшее до этого времени, и университетские коллегии стали получать снова некоторое влияние на ход дел, хотя попечители по-прежнему продолжали быть настоящими хозяевами. В этом отношении особенно благоприятно было положение С.-Петербургского университета, где попечителем после Мусина-Пушкина был назначен в 1858 г. кн. Щербатов, отнесшийся весьма сочувственно не только к автономии профессорской коллегии, но даже и к зачаткам корпорации студенческой[529]. Оживление, удивительный подъем сил и освободительная горячка, наступившие в русском обществе с официальным приступом в конце 1857 г. к освобождению крестьян, особенно сильно отразились и должны были отразиться на университетах, которые знаменитый ученый Пирогов остроумно называет «лучшим барометром общества»[530]. Не только в Петербурге, где открытые для всех, без различия возраста и пола, аудитории переполнялись многочисленною толпою вольнослушателей и вольнослушательниц, но и в провинциях оживились университеты, благодаря новым освободительным веяниям. Особенно горячо откликнулась на них университетская, всегда восприимчивая ко всему доброму и благородному, учащаяся молодежь, даже там, где по местным условиям жизни существовал антагонизм в среде ее. В Одессе в 1857 г., едва пришла весть чрез иностранные газеты «об улучшении быта крепостных людей», студенты первые собрались и пили за здоровье освобождающего и освобождаемых[531], повинуясь одному чувству воодушевления, охватившего разноплеменную учащуюся молодежь.
В Петербурге первоначально студенческая корпорация с ведома попечителя кн. Щербатова получила некоторую правильную организацию, преследовавшую цели образовательные, благотворительные и личного усовершенствования (касса, издание сборника, корпоративный суд). Но печальные события 1861 г., созданные частью неумелою[532] деятельностью стоявших во главе университета попечителя округа, кавказского боевого генерала Филипсона и министра адмирала Путятина[533], вызвали студенческие беспорядки, получившие впоследствии политический характер, благодаря постороннему влиянию[534]. Беспорядки повлекли столкновения[535] попечителя с советом Петербургского университета, его закрытие, а затем отставку, после полугодового управления, реакционного министра гр. Путятина и назначение на его место либерального, просвещенного деятеля с прогрессивными взглядами А. В. Головнина, приближенного великого князя Константина Николаевича, признанного представителя либеральной программы[536].
Добрые отношения, установившиеся между попечителем кн. Щербатовым и С.-Петербургским университетом, имели чисто случайный характер, и они могли измениться, как и показали последующие события с переменою лиц, стоящих во главе университета. Мысль составить взамен университетского устава 1835 г., от которого ничего почти на деле не осталось[537], новый, согласный с либеральным направлением, возникла еще в 1858 г. при кн. Щербатове, по предложению которого был составлен Петербургским университетом проект, пролежавший несколько лет под сукном. Он бы, вероятно, и еще долго оставался без движения, если бы не великая реформа 19 февраля, которая, уничтожив рабство, произвела переворот в умах и дала ход всем освободительным начинаниям. Студенческие же беспорядки 1861 г. дали, как ближайший повод, новый толчок университетской реформе. Еще при гр. Путятине была образована в конце 1861 г. комиссия[538] для составления проекта. Проект этой комиссии был опубликован и разослан во все русские университеты и известнейшим заграничным ученым. Поступившие крайне интересные замечания (два больших тома) были напечатаны и переданы, по мысли А. В. Головнина, на обсуждение состоявшего при министерстве ученого комитета главного правления училищ[539] для составления окончательного проекта, который до внесения в Государственный Совет был подвергнут еще рассмотрению особого «Строгановского комитета»[540] для составления главных оснований, и, наконец, проект внесен был в Государственный Совет.